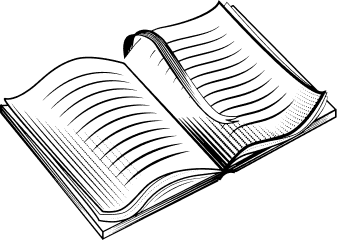«Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!.. "грозный призрак"... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю – грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру... А вслед за призраком постучал присяжный поверенный Гензулаев – светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.
Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически.
– Что ж это вы так приуныли? (это Гензулаев.)
– Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...
– Не спорю. Владикавказ – паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?.. Знаете что...
И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил: а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев назубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.
Так, так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.
– Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.
– Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим»[1].
И они принялись писать.
«У него была круглая, жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...
И мы писали.
Он нежился у печки и говорил:
– Люблю творить!
Я скрежетал пером...»[2]
«Мы ее написали в семь с половиной дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем Мир»[3].
«...Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...»[4]
На самом деле Булгаков совершил не одно это преступление, выполненное группой лиц по предварительному сговору. До него было еще четыре в одиночку. За год жизни во Владикавказе он написал не только скверную пьесу “Сыновья муллы” в соавторстве с Туаджином Пейзулаевым. Кроме нее было еще четыре созданные им одним. И все, как на подбор: одна другой хуже. И четыре пьесы из пяти были поставлены во Владикавказе, а три даже отправлены в Москву на какой-то конкурс. Голод вам не тетка.
«В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки… Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной, чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя – никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..
В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:
– Ва! Подлец! Так ему и надо!
(Между прочим, не только кричали, но и стреляли в воздух даже.)
И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: "автора"!
За кулисами пожимали руки.
– Пирикрасная пыеса!
И приглашали в аул...»[5]
С таким сарказмом Булгаков все это описывал несколько лет спустя в двух своих произведениях: “Записках на манжетах” и “Богеме”. Тогда у него уже было ощущение, что возможно, из него что и выйдет. Во Владикавказе же на него накатывало отчаяние. А вдруг он ошибается на счет себя? Вдруг эти «туземцы», как тогда еще прилично было говорить – единственные зрители, отпущенные ему в жизни? Может, кроме этой летней сцены больше ничего и не будет? И все, на что он способен, – вот такие паршивые “пыесы”?
«Жизнь моя – мое страдание. Ах, Костя; ты не можешь себе представить, как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда “Турбины” шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на четыре года с тем, что я должен был давно начать делать, – писать… В театре орали “автора” и хлопали, хлопали… Когда меня вызвали после 2-го акта, я… смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: “А ведь это моя мечта исполнилась… но как уродливо: вместо московской сцены, сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь…” Рвань все: и “Турбины”, и “Женихи”, и эта пьеса». Это из письма двоюродному брату. А вот письмо Вере: «Я очень тронут твоим и Вариным пожеланиями в моей работе. Не могу выразить как иногда мучительно мне приходится. Думаю, что это Вы поймете сами… Я жалею, что не могу послать вам мои пьесы. Во-первых, громоздко, во-вторых они не напечатаны, а идут в машинных списках, в-третьих, они чушь»[6].
Кроме этой чуши, он также по ночам пытался писать роман и редактировал “Записки земского врача”. Они были куда лучше его тогдашней драматургии и успокаивали чувство неловкости, возникавшее при виде собственных драматических опусов. Но и рассказы еще не были доведенными до ума. Да и печатать их было негде.
«Словом: после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо, и единственное, на что я надеюсь, – это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто – мне. Сто – Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи: "Да здравст..." и полос тумана.
Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа»[7].
«...Бежать! Бежать!.. Вперед. К морю. Через море и море и Францию – сушу – в Париж!»[8]
Добраться из Владикавказа до Парижа, однако, в 1921 году было не так-то просто. Каких-то полгода назад можно было с большими приключениями, но все же пробраться в белогвардейский Крым. А уж оттуда один за другим уходили пароходы в Константинополь. Но в ноябре двадцатого белых с Крыма уже выбили…
В любом случае нужно было двигаться в сторону Черного моря. Самое разумное – ехать через Тифлис в Батум. В Тифлис из Владикавказа ведет Военно-Грузинская дорога. Всего-то двести десять верст по необычайно красивой местности, как все уверяют. В городе все знали перекресток, где направлявшиеся в Тифлис шоферы подбирали попутчиков. Неприятности начались сразу: Булгаков пришел на этот всем известный перекресток, и никаких шоферов не обнаружил. Через несколько лет он написал рассказ, в котором утверждал, что в 1921 году «самое слово "нанять" звучало во Владикавказе как слово иностранное». Тут он по своему обыкновению несколько гиперболизировал. Во всяком случае, его жена вскоре вполне удачно добралась в Тифлис на машине. Но он был вынужден искать другой способ путешествия.
«Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово "Баку".
– Возьмите меня с собой, – попросил я.
– Не возьму, – ответил бородатый.
– Пожалуйста, для постановки революционной пьесы, – сказал я.
– Не возьму.
Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.
– А какая пьеса? – спросила она.
– Вот.
Я развязал одеяло и вынул пьесу.
– Сами написали? – недоверчиво спросил владелец теплушки.
– Еще Гензулаев.
– Не знаю такого.
– Мне необходимо уехать.
– Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из Политпросвета.
– Я не буду выкомаривать, – сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное, – на полу могу»[9].
Из Тифлиса он пишет письмо родственникам: «Дорогие, Костя и Надя, вызываю к себе Тасю из Владикавказа и с ней уезжаю в Батум, как только она приедет и как только будет возможность. Может быть, окажусь в Крыму… “Турбиных”… в печку. “Парижские”… В печку, конечно. Они как можно скорее должны отслужить свой срок… Не удивляйтесь моим скитаниям, ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе. Ну и судьба! Ну и судьба! Целую всех, Михаил»[10].
«Михаил поехал в Тифлис – ставить пьесу, вообще разведывать почву. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали, печатать его тоже не стали. Ничего не выходило… Ну никакой возможности заработать не было, хоть ты тресни! Мы продали обручальные кольца – сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в свое время у Маршака – это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: “Михаил Булгаков” и дата свадьбы, а на его: “Татьяна Булгакова”…»[11]
Началась черная полоса. Он будто всюду натыкался на невидимую стену. Но нужно было перепробовать все, прежде чем признать поражение. Поехали в Батум. Он надеялся, что хоть там удастся что-нибудь заработать. Без взятки вывозить их в Турцию, понятное дело, никто не стал бы. Он винил себя в медлительности: из Севастополя меньше года назад уплыть было намного проще – надо было срываться с места ранней осенью двадцатого. И цепь золотая еще цела была…
«Я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой... Мы пришли, я тут же купила букет магнолий – я впервые их видела. Легли спать – и я проснулась от безумной головной боли. Зажгла свет и закричала: вся постель была усыпана клопами… Мы жили там два месяца, он пытался писать в газеты, но у него ничего не брали.
Ходили на пристань, в порт он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А он еще очень боялся, что его выдадут. Очень боялся.
Много теплоходов ушло в Константинополь. Он сказал, чтоб я ехала в Москву и ждала от него известий. “Если будет случай, я все-таки уеду”. – “Ну уезжай”. – “Но ты не беспокойся. Где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову. Как всегда вызывал”. Я была уверена, что мы расстаемся навсегда»[12].
Они продали на базаре кожаный “бауль”, который Тасин отец купил когда-то в Берлине. На вырученные рубли взяли ей билет на пароход – выбраться из Батума тогда можно было только по морю. И она отправилась в Москву.
[1] "Богема"
[2] "Записки на манжетах"
[3] "Богема"
[4] "Записки на манжетах"
[5] "Записки на манжетах"
[6] Письма
[7] "Богема"
[8] "Записки на манжетах"
[9] "Богема"
[10] Письма
[11] Т.Н. Лаппа. Интервью
[12] Т.Н. Лаппа. Интервью