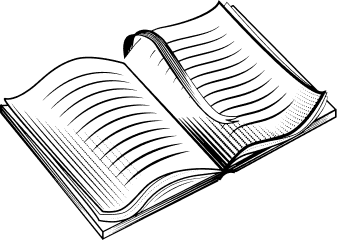Сегодня я поделюсь с вами еще одним интервью. На этот раз мы погрузимся в потаенные места, куда не заглядывал глаз и не ступала нога большинства москвоведов-любителей, хотя многие об этом мечтают — в государственный архив.
Мой собеседник — Николай Дмитриевич Курносов, архивист с огромным стажем и опытом. А также — автор замечательного Дзеновского канала «ГОЛОСА МИНУВШЕГО ВЕКА», который я с удовольствием всем рекомендую.
Интервью получается по-настоящему масштабным, всеобъемлющим и настолько интересным, что я решил разбить его на части. Даже сейчас, когда вы читаете эту запись, мы продолжаем над ним работать.
В настоящий момент перед вами первая часть беседы. В ней мы познакомимся с Николаем Дмитриевичем и устроим предварительное знакомство с архивной жизнью. А в следующей части уже постараемся более конкретно погрузиться в предмет и даже, возможно, выясним, как попасть в архив простому человеку, что для этого нужно и что из этого может получиться.
А пока — приступим.
- Николай Дмитриевич, спасибо, что откликнулись на мое предложение о маленьком импровизированном интервью. И, в первую очередь, задам свой традиционный вопрос: если бы не Москва, то в каком другом городе России или всего мира вы могли бы или хотели бы жить?
В каком городе я хотел бы жить? Если в России — то в Питере. Люблю этот город, скучаю по нему и даже тоскую, если долго там не бываю.
Если в мире, то здесь ответ не очевиден. Был во многих городах Европы, малых и больших. Даже не знаю. И Прага нравится. И Флоренция. И какая-нибудь крошечная Диана-Марина на Лигурийском побережье.
Ницца почему-то совсем не тронула сердце. Или Париж, хотя я отдаю должное этому городу. Или Рим, хотя тоже считаю этот город великим. Берлин оставил мое сердце абсолютно холодным…
Венеция! Как я мог забыть Венецию? Конечно, Прага или Венеция.
- Вы родились в Москве? Какие изменения вы наблюдаете в городе? Чего больше — изменений к лучшему или к худшему?
Родился я очень далеко отсюда, в городе Цзинчжоу. Это Китай. Рядом Порт-Артур и город Далян (Дальний). Там служили мои родители, оба офицеры Советской армии (мама — военврач). Потом судьба бросала их по всяким дальним гарнизонам. Мары в Туркмении, Северный Кавказ, Баку. В Баку прожил я 10 лет, мальчишкой ногами обошел его вдоль и поперек. Очень скучаю по этому красивому городу.
Целый год жил в Сызрани. И тоже детские ностальгические воспоминания по этому Приволжскому уютному деревянному (в то время) городку.
В Москве, вернее в Мытищах, живу с 1961 года. В самой столице — с 1980 года.
Но Москва мало трогает мое сердце. Гигантский город, целая страна, вселенная. Может быть, поэтому я не очень люблю Москву, хотя когда-то мне очень нравилось по ней гулять, узнавать, что-то новое. Но это скорее с точки зрения познавательной. И вообще я не люблю масштабов и масштабности — я человек камерный, интимный.
Были любимые места, но эти места были любимыми потому, что связаны были с какими-то тёплыми сердечными воспоминаниями. Сейчас все они перестроены, нет того уютного ресторанчика на Пушкинской улице, где я полвека назад впервые увидел свою жену. Нет нашего дома в Бескудниково, где мы жили после свадьбы. Как на картине Василия Максимова «Все в прошлом».
Очень стал не любить ездить по Москве на машине. Раньше любил, особенно по утрам.
Не знаю, почему меня Москва оставляет равнодушным. Может, это возраст. Всё-таки 76 лет, в этом возрасте думаешь уже больше о вечном, вине о красотах вокруг.
Когда-то в зрелые годы по несколько раз в год мы с женой любили ездить в Тарусу, жили там в старенькой гостинице напротив автостанции, или на берегу Оки в палаточном городке (это была такая услуга городских коммунальщиков — палаточный городок, с общей кухней с баллонным газом). Но там же стояло и несколько финских дощатых домиков, в них снять жилье было подороже.
Но сейчас и в Тарусе все изменилось. Не осталось прежнего уюта и теплоты провинциального городка.
Это как танцверанда, там, на берегу Оки, там, где сейчас памятник Марине Цветаевой. Раньше — духовой оркестр с мальчишкой, старательно дующим в свой никелированный альт. С одноногим инвалидом войны, для которого его труба — как любимый ребенок. Со старым евреем-кларнетистом.
А ныне та же танцверанда (правда, в другом уже месте), но она неживая. Музыка — это не музыка, а какая-то электронная какофония. Одна и та же музыкальная фраза из пяти нот повторяется и повторяется бесконечно и заунывно под жёсткий и мертвый ритм.
Исчезла душа даже в этой утилитарной — для танцев — музыки.
Может, оттого и люди вокруг стали суше, жёстче, циничнее, изворотливей и практичней, что в окружающей их музыке исчезла светлость и гармоничность? Может, от этого они и читать перестали, все больше читают краткие СМС-ки друг от друга, больше напоминающие зашифрованные радиограммы Штирлица Алексу?
- С грустью в сердце говорю, что не могу с вами не согласиться. Правда, Москву я люблю нежно и несмотря ни на что, но ваши чувства также хорошо понимаю. А теперь расскажите, пожалуйста, о своей работе. Кстати, как правильно называется ваша профессия?
Правильное название нашей профессии — архивист.
Слово «архивариус» — устаревшее. Но и до сих пор в маленьких городских архивах со штатом 2-3 человека эти названия должностей существуют. Или в ведомственных архивах (в министерствах, в больших главках) тоже продолжают существовать эти названия.
- Чем руководит или кому подчиняется архивист?
Архивист — не только обобщающее название профессии, но ещё и должность. Архивист 1-й и 2-й категории. Потом старший архивист, ведущий и главный. Более высокие должности — это начальник отдела и директор архива.
Но главный архивист — вовсе не значит, что это единственный командир над остальными. В больших архивах — а Центральный государственный архив города Москвы именно такой большой архив со штатом в 300 человек (раньше было 600) — главных архивистов десятков пять, не меньше.
Это как в госучреждениях, только там не ведущие архивисты, а ведущие специалисты. Не архивисты, а специалисты 1-й категории. Например, в службе «одного окна».
Вообще в начале 90-х годов несколько лет действовала так называемая «Табель о рангах», когда гражданские специалисты получали продвижение, как в армии. Помнится, было то ли 14, то ли 18 категорий. И директор завода, допустим, приравнивался по своей высшей категории к генерал-полковнику (18 разряд). Главный инженер — к генерал-майору (17 разряд). И так далее. Уборщица — 1 разряд.
В середине 90-х годов эту разрядную сетку упразднили, и началась неразбериха, когда специалист 1-й категории в архиве получает условно 20 т. р., такой же специалист в министерстве — 45 т. р., а где-то в Газпроме или в Роснефти (хотя это тоже как бы госструктуры) может получать и 100 т. р.
- Как выглядит работа архивиста изнутри?
Здесь очень много градаций. То есть, узких специализаций.
Если человек работает в архивохранилище — там, где непосредственно хранятся документы — это одно. Если он отвечает на запросы, работает с людьми — это другое. Если он ведёт документы учёта или каталогизирует документы — это третье.
Самая грязная и тяжёлая работа — это в хранилище. Именно сюда поступают запросы «снизу». Хранилища, как правило, старые, расположены в приспособленных помещениях. Высоченные стеллажи, куда нужно забираться по приставным лесенкам. Пыльные и тяжёлые коробки с делами. Сами дела тоже не из лёгких, как правило.
Вот пришел запрос из читального зала от исследователя на пять дел (в день каждый читатель имеет право заказать не более пяти дел).
Это пять папок различной толщины (от пяти листов до 200 страниц). Их нужно спустить по лесенке со стеллажа вниз. Взамен поставить такие картонные планки — карточки-заместители, где указано: кому и когда выдано данное дело и на какой срок. Записать каждое дело в книгу выдачи. Передать специалисту, который доставит их в читальный зал. И лезть на стеллаж дальше, выдавая следующий запрос. И так, как белка в колесе, целый день вниз-вверх, вниз-вверх.
И то же самое, когда дела возвращаются из читального зала в хранилище. Все в обратном порядке. Отметить в книге выдачи, что дело на месте. Поставить его на стеллаж. Вынуть при этом карту-заместитель, отметив дату возвращения.
Уф-ф-ф можно чуть-чуть передохнуть.
- А как же не запутаться в этих колоссальных массивах информации? Случаются ли вообще ошибки или путаница в хранилищах?
Каждый год в хранилище проводится так называемая «проверка наличия». То есть оно закрывается примерно на месяц, и специальная комиссия из трёх человек проверяет, все ли дела стоят на месте. Причем примерно каждое 30-е дело перелистывается, считаются пронумерованные страницы — нет ли там вырванных или вырезанных.
Иногда при этом обнаруживается, что какое-то дело по ошибке было поставлено не на свое место. Хорошо, что его не затребовали исследователи, а то отыскать его в огромном архивохранилище невозможно. Поди разберись, куда его по ошибке поставили. Полки все одинаковые и коробки с делами тоже все одинаковые. Для этого и служат эти проверки наличия.
Катастрофа, если в силу каких-то форс-мажоров приходится перемещать всё хранилище в другое здание, на другой этаж и т. п. (затопило сверху или капитальный ремонт здания). На эту тяжёлую работу встают все сотрудники архива, и она занимает несколько недель.
- Наверное, и обычное поддержание чистоты и порядка в архиве — особая задача? Кроме того, ведь это бумага, и бумага, которую не заменишь просто так одну другой, как вконец растрепавшийся экземпляр книги в библиотеке?
Конечно. По планам работы есть такой вид деятельности, как «обеспыливание». Занимаются им специальные люди типа уборщиц. С влажной тряпкой и пылесосом они лазают по стеллажам и собирают пыль с архивных коробок.
Есть также специфический вид работы — фунгицидная обработка. Специальным раствором приглашенные работники обрызгивают стены, стеллажи и коробки, чтобы в хранилище не развивалась плесень. По этой же причине внутри хранилища запрещено принимать пищу и вообще держать какие-либо разлагающиеся биологические или органические вещества. Для архивиста плесень — враг номер один.
К тому же с документами нужно обращаться очень бережно, а они порой на грани истлевания.
- А кто работает в архиве? Помимо перемещения по лестницам и переноски тяжестей, с какими трудностями могут столкнуться архивисты?
Это нелёгкая работа. Потому что приходят посетители, не знающие толком, что они хотят. Порой они даже не понимают, куда приходят.
Например, человек обращается в городской архив за справкой о трудовом стаже. Выясняется, что работал он в Москве, однако не на предприятии городского подчинения, а на каком-то оборонном заводе союзного значения или в министерстве. И его документы хранятся в совершенно другом общесоюзном архиве. Может быть, даже не в Москве, а в Санкт-Петербурге (если предприятие было связано с флотом).
Но даже если проситель ищет справку правильно, вовсе не факт, что документы о его трудовой деятельности сохранились.
Особенно это касается времени после 1990 года, когда заводы массово закрывались, никто документы отделов кадров на госхранение не передавал, они попросту выбрасывались на помойку или сжигались новыми хозяевами, занимавшими территорию этих предприятий.
Или документы по генеалогии. Это вообще очень щепетильное дело. Приходит человек и говорит: «Подтвердите, что моя прабабушка родилась в Москве». Или: «Где в Москве жил мой прадедушка и кем он работал?»
Здесь сотрудник архива очень внимательно должен выслушать посетителя, выяснить абсолютно все, что ему известно о его родственниках. А если что-то неизвестно, сориентировать просителя на поиск дополнительной информации: в каком примерно районе города (а ещё лучше — на какой улице) жил родственник. Потому что иногда даже не нужен архивный документ. В справочной библиотеке архива хранятся типографские адресные и телефонные книги Москвы за все годы (почти за все). И там легко найти по фамилии адрес. Или, наоборот — по адресу фамилию проживающего и его социальный статус.
А если известен адрес — то известен и церковный приход, к которому были приписаны москвичи. И уже в церковно-приходских книгах можно найти и родившихся, и умерших, и венчавшихся.
- Какими качествами должен обладать работающий в архиве специалист?
Сотрудники, занимающиеся социальными запросами, должны иметь прекрасные знания о составе фондов своего архива, о других аналогичных архивах, должны знать устройство госучреждений Москвы за все периоды их существования и, разумеется, иметь бесконечное терпение для работы с людьми, для которых порой эта архивная справка означает размер пенсии на старости лет…
На этом я мысленно еще раз благодарю Николая Дмитриевича за прекрасную беседу. Ее продолжение о том, как непосредственно происходит взаимодействие архивиста с посетителями и как простой человек может стать посетителем архива, выйдет очень скоро. Как говорят в телевизоре — не переключайтесь!