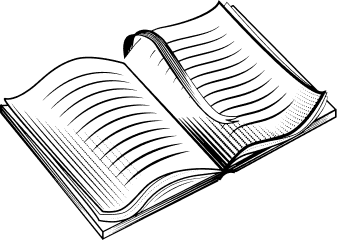ОРИГИНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ
АВТОР: ДЭВИД БЕТЦ
Оборонительные возможности русских основаны на старой, но эффективной стратегии образца ХХ века.
Долгожданное украинское контрнаступление к югу от Запорожья после более чем месячной бойни, похоже, развивается в никуда. Погрязшая в лабиринте препятствий и минных полей, неспособная маневрировать и не имеющая достаточной защиты с воздуха, украинская бронетехника, поставляемая с Запада, массово уничтожается неподавленными российскими противотанковыми средствами, а пехота перемалывается (в оригинале shredded — прим. Е.Н.) массированным и хорошо направленным артиллерийским огнем. Даже самые оптимистичные оценки хода украинского наступления, которое до сих пор с трудом пробивается сквозь российские укрепления, состоит в том, что оно идет медленно, стоит очень дорого и по-прежнему далеко от заявленной цели перерезать сухопутный мост в Крым.
Для современной войны верно то, что сражения, как правило, исчисляются неделями, а не днями. Таким образом, как это отражено в публичных заявлениях только что завершившегося саммита НАТО в Вильнюсе, отсутствие прогресса на Украине на данный момент не должно вызывать панику или пессимизм, а, скорее, сделать более важным проявление флегматичной решимости перед лицом ужасных потерь или даже заставить удвоить усилия для достижения окончательной победы.
Хотя теоретически это возможно, на практике адекватность таких взглядов сомнительна.
Для сравнения с битвами аналогичного масштаба: первая битва при Эль-Аламейне длилась 19 дней, вторая — двадцать шесть, Арденнская битва длилась отчаянные сорок два дня, колоссальная Курская битва длилась более пятидесяти двух дней монументальных усилий, в то время как успех союзников в операции «Оверлорд» был достигнут через восемьдесят четыре дня. С этой точки зрения, нынешнее украинское наступление находится где-то между кампаниями в Арденнах и на Курской дуге, и пока мало что может показать. Между тем, есть предварительные признаки того, что российские силы возвращаются к наступлению в других секторах. Словом, ситуация для Украины объективно плачевная, хотя и не совсем безнадежная.
Почему? Настоящее эссе представляет собой попытку объяснить один из аспектов более широкого ответа на этот вопрос, который был недостаточно разработан экспертами.
Позиционный тупик российско-украинской войны удивил многих наблюдателей. Многие аналитики связывают это с недостатками российской, а иногда и украинской военной эффективности, поскольку ни одна из этих армий, предположительно, не способна вести маневренную войну комбинированными силами, так, как ее понимают и практикуют ведущие западные армии. Я бы предположил, что это неверный взгляд.
Выяснилось, что интенсивные боевые действия с использованием обычных вооружений в двадцать первом веке просто в гораздо большей степени зависят от старых потребностей в массировании сил и средств, а также от физической и моральной способности выдерживать и возмещать потери людей и техники, чем многие ожидали. Сомнительно, чтобы какая-либо западная армия действовала лучше, а скорее всего хуже, и ни одна из них не была бы способна выдержать потери, понесенные любой из воюющих сейчас сторон. Например, Германия, богатейшая и крупнейшая западноевропейская страна и традиционно сухопутная держава, недавно объявила о своем стремлении иметь к 2025 году хорошо оснащенную армейскую дивизию (примерно 15 000 военнослужащих). Украина, похоже, потеряла за июль столько же, в то время как российская мобилизация за год поставила в строй на порядок больше людей.

Дело в том, что западная военная наука, которая не проверялась против равного врага более чем поколение, серьезно ошиблась, радикально переоценив мощь наступательного маневра высокомобильных, объединенных в цифровую сеть сил, относительно легких, очень дорогих и дефицитных — «корзина», в которую вложили все метафорические «яйца». Россия, напротив, сохранила значительный «старый» военный потенциал, в то же время используя некоторые новые технологии при небольших затратах, адекватно адаптируя свою тактику — по крайней мере в большинстве случаев и, я утверждаю, особенно в сфере полевой фортификации.
Если эти утверждения удивляют читателей, то это потому, что противоречат излияниям западных военных экспертов: они слишком легковерны в отношении украинских нарративов, застряли в потоке устаревшего мышления и чрезвычайно склонны пренебрегать или игнорировать очевидные аспекты российской военной деятельности. На войне совершенно разумно лгать своему врагу — даже настоятельно рекомендуется; гибельно, однако, лгать самому себе, что, к сожалению, долгое время было основным занятием западной военной мысли. В конце концов, однако, реальность берет верх над попытками принимать желаемое за действительное, и это происходит сейчас все более явно в русской степи.
Ложное предположение о «Современной системе»
До недавнего времени западная военная теория склонялась к тому, что фортификация устарела из-за достижений мощности и точности современного оружия и развития комбинированной маневренной тактики. В «Искусстве маневра» Роберта Леонарда , важном справочнике по искусству современной войны, эта тема ограничивается приложением о военных инженерах, в котором говорится:
… препятствия в основном служат для фиксации дружественных сил на месте и мало задерживают врага. Создание сложных препятствий часто утомляет защитников позиций, и вместо того, чтобы сосредоточиться на победе над врагом, войска отвлекаются на осознанную необходимость защищать препятствие.
Точно так же «современная система» ведения войны, если использовать термин, введенный американским военным аналитиком Стивеном Биддлом, предполагает, что статические укрепления были фатально уязвимыми на протяжении более чем века. Как выразился Биддл:
В то время как выживание в ходе атаки было особенно проблематичным (как можно пересечь простреливаемую землю, чтобы наступать на врага?), выживание в обороне также не было тривиальной задачей. Защитники могли закапываться в землю для защиты, но даже тщательно выкопанные статические позиции могли быть разгромлены современной артиллерией — это просто вопрос времени.

Суть дела в том, что « сложные заграждения » в современных операциях доказали свою эффективность. Более того, несмотря на то, что современное оружие, несомненно, может быть очень точным, статические позиции все еще кажутся достаточно надежными — более того, они очень эффективны, когда являются частью разумно спроектированной огневой системы, которая может нанести точный ответный удар по нападающим с любой точки. Короче говоря, центральное положение западной военной теории, казалось бы, имеет сомнительную достоверность: сообщения о гибели фортификации были сильно преувеличены.
Организация защиты
На первый взгляд нельзя сказать, что российские вооруженные силы применяют оборонительные полевые работы каким-то особенно новым способом. Возьмем, к примеру, строки из статьи полковника А. Лебедева в российском военном журнале «Военная мысль» «Долговременные оборонительные системы в свете опыта войны».
Непроницаемость обеспечивается эшелонированием огневых сооружений в глубину и созданием укрепрайонов, состоящих из нескольких секций. Наступающим войскам противника следует оставить только один вид маневра — лобовой удар с целью прорыва. Прорвав фронт и нейтрализовав оборонительные сооружения по оси своего удара, противник постепенно втягивается в «котёл», окаймленный эшелонированными в глубину укрепрайонами, естественными рубежами и второй полосой; так как у него очень ограниченные возможности для расширения прорыва по флангам, он обречен на уничтожение в этом «котле» огнем и контрударом обороняющихся.
То, что он описывает, является точным описанием проблемы, с которой сегодня сталкиваются украинские войска и бронетехника, пробиваясь в лоб через ряды мин и заграждений, в то же время подвергаясь жестокому ракетному и артиллерийскому обстрелу окопавшихся российских сил — за исключением того, что статья была написана в 1945 году, а военный опыт, на который он ссылается, — это такие события, как гигантская Курская битва, которая произошла почти ровно восемьдесят лет назад, летом 1943 года.
Грандиозный размер нынешних укреплений, фронт которых превышает тысячу километров, а глубина доходит до пятидесяти километров, и скорость, с которой они были построены, является признаком того, что Россия сохранила значительный военно-инженерный потенциал. В нынешних условиях это показывает, насколько по-прежнему актуальна глубоко эшелонированная оборона.

По основной форме и средствам строительства российские полевые укрепления, казалось бы, мало чем отличаются от тех, которые предписывались доктриной 1960-х годов. Устойчивость обороны, особенно против атакующей бронетехники, зависит от комбинации элементов. По всему обороняемому району рассредоточены ротные и взводные опорные пункты, имеющие собственные противотанковые средства и способные к круговой обороне. Они расположены так, что их огонь перехватывает наиболее вероятные направления атаки, которые, в свою очередь, подготовлены противотанковыми минами и физическими заграждениями. Также окапываются мощная ствольная и реактивная артиллерия, противотанковые ракеты и системы ПВО, контролируемые вышестоящими командирами, пункты управления, пункты снабжения и т. д.
Схема оборонительных укреплений, описанная выше, должна восприниматься как ориентир, а не как жесткий набор правил. Командиры изменяют порядок, глубину и расположение элементов в зависимости от местности и характера угрозы. Линии обороны могут повторяться несколько раз на многокилометровой глубине, создавая мощную взаимосвязанную систему там, где предполагаемая угроза является наибольшей. Более того, реактивная артиллерия, способная дистанционно создавать новые минные поля в районах, очищенных противником, позволяет линиям обороны обновляться даже в процессе боевых действий.

Ничто из этого не должно игнорировать достижения в способности вооруженных сил проводить комплексные военные операции, движимые эффективным использованием относительно новых и дешевых информационных технологий. Точно так же нельзя сбрасывать со счетов влияние таких вещей, как недорогие беспилотники, барражирующие боеприпасы, такие как российская система «Ланцет», которая сейчас производится в больших количествах, и так далее. Они привносят в характер боевых действий существенные изменения, но они находятся в контексте операций, которые в целом непрерывны: старые правила все еще применяются, а якобы устаревшие военные инструменты оказались не таковыми.
Полевые укрепления по определению целесообразны: суть в том, чтобы разумно использовать территорию, которую нужно защищать, творчески использовать любые доступные ресурсы и точно оценивать намерения, тактику и вооружение противника. Факты свидетельствуют о том, что русские командиры сделали это хорошо. Примечательной и в целом неверно истолкованной российской военной практикой является эффективная передислокация якобы устаревших военных систем, включая старые танки и корабельные зенитно-артиллерийские башни, интегрированные в оборонительные позиции, где они хорошо служат в качестве полевой артиллерии и полезны, даже если в качестве эрзаца, в качестве ПВО ближнего действия против дешевых коммерческих дронов и квадрокоптеров.
Исполнение
Мера полезности современных полевых укреплений не в том, останавливает ли она атаку противника на первых же рубежах. Наоборот, оборона от крупного наступления предполагает, что прорывы будут купированы в глубине огневой системой укрепрайона. В российской доктрине давно подчеркивалась функция фортификационных сооружений как части единой огневой системы, понимаемой как организованное
развертывание и применение защищенных средств поражения для уничтожения наступающих на подступах к полосе обороны, в непосредственной близости от линии фронта, на флангах и при вклинении противника в оборону.
Такие идеи вряд ли уникальны для российского военного мышления. Во многом те же самые идеи были частью концепции «Воздушно-наземной операции» эпохи 1980-х годов, разработанной НАТО для защиты Западной Европы от нападения со стороны сил Варшавского договора, имеющих существенное превосходство. В этом случае план предусматривал сочетание «маневренной» и «стационарной» обороны. Первая «ориентируется на уничтожение атакующих сил, позволяя противнику продвинуться на позицию, открытую для контратаки». Последняя «ориентируется на удержание местности, поглощения противника на взаимосвязанных позициях и уничтожения его в основном огнем».
Кроме того, глубокие удары по узлам снабжения, транспортным узлам и подкреплениям должны были еще больше ослабить атаку.
Примечательно, что Россия, по-видимому, успешно применяет что-то вроде той формы обороны, которую Запад предусмотрел почти 40 лет назад, чтобы противостоять бронированной массе Варшавского договора за счет превосходного использования своих преимуществ в вычислительной технике и микроэлектронике — возможностей, которые Советский Союз не обладал. Дело, однако, в том, что Россия теперь обладает такими возможностями, чтобы этой доктрине соответствовать. Удивительно, но Украина этого не делает, даже при поддержке коллективного Запада.
Центральный вопрос сводится к расчету некоторых факторов. Какова конечная цель наступления, для защиты от которой предназначена система укреплений, и какова сила атаки? Ответы, в свою очередь, определяют необходимую глубину и плотность обороны. В данном случае, хотя невозможно точно знать, что думают украинские генералы, кажется разумным, что цель состоит в том, чтобы, по крайней мере, перерезать российские пути снабжения Крыма, отбив Мелитополь. По этому показателю после более чем месяца украинских атак они не столько уничтожаются в глубине российской обороны, сколько застревают в «зоне деформации» (в оригинале crumple zone, не вполне понимаю, что это, но по контексту выходит, что предполье — прим. Е.Н.).

Эта ситуация вызовет тревогу у некоторых читателей. Не исключено, что украинские вооруженные силы смогут добиться долгожданного прорыва российских оборонительных рубежей. Не исключено, что случится психологический надлом у российских солдат, после которого они не смогут продолжать столь упорное сопротивление. Однако вероятность того и другого значительно преувеличена в западных отчетах и с каждым днем уменьшается. Более того, следует сказать, что российская оборонительная доктрина ясно указывает на то, что в конечном счете цель обороны состоит просто в том, чтобы служить стартовой площадкой для успешного наступления. Эта проблема выглядит все более неизбежной.
Полевые укрепления имеют важное значение в современной войне, что противоречит ожиданиям военной теории. Россия дееспособна в этой форме ведения войны, потому что она обладает большим количеством оборудования и навыков, которые морально устарели, но остаются эффективными. Она также разумно и экономно вводит новшества в области дальнобойного вооружения, которое повышает мощь обороны, что напоминает планы НАТО по обороне Западной Европы времен холодной войны.
Отсюда следует, что перспективы украинского контрнаступления туманны. Если этот вывод покажется читателям особенно разочаровывающим, то он может дать некоторое утешение в том, что, возможно, в относительно короткие сроки России предстоит найти решение загадки возобновления решительного наступления в войне против современных полевых укреплений, которая ускользнула от внимания всех остальных. Вероятно, что если не рассматривать возможность существенных геополитических изменений, эта история продлится еще долго.