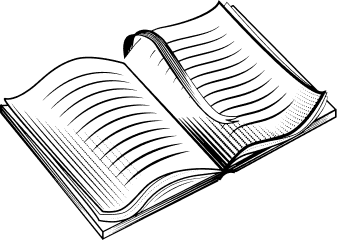Самурай мексиканских прерий. Как японец воевал за мексиканских повстанцев?

«Подписывайся на базу⚡»
От священника до лидера повстанцев. Когда лук и копье актуально и поныне.

«Подписывайся на базу⚡»
Тюмень против Колчака. Тюменское восстание 13 марта 1919 года
Тюмень на протяжении веков являлась глубоко тыловым городом. Даже в Гражданскую войну, когда военные действия затронули всю Россию, Тюмень избежала кровавой мясорубки и дважды была взята без боя: сначала белыми в 1918, а потом красными — в 1919 году. Так что единственный раз, когда Тюмень оказалась в эпицентре боевых действий, было во время антиколчаковского восстания 13 марта 1919 года. Однако память об этом событии была вытеснена из сознания тюменцев Великой Отечественной войной, а современная тюменская тапонимика никак не напоминает о восстании 13 марта (Мартовская слободка, которой присвоили название в честь восстания, исчезла ещё в 50-е гг. прошлого века, когда район застроили домами). Однако антиколчаковское восстание 13 марта 1919 года — это, по выражению томского историка М. И. Вебера, «центральное событие военной истории города Тюмень», и мы должны о нём помнить.

Помимо этого, восстание 13 марта ярко отображает причины поражения колчаковского режима. Военный диктатор оказался неумелым политиком — и ведь такая история не нова. По справедливому мнению д. и. н. Кирилла Борисовича Назаренко,
«талант политика и талант полководца лежат в разных плоскостях… Яркий пример блестящего полководца и плохого политика — это Наполеон. Но почему Наполеон был плохим политиком? Потому что хороший политик не умирает в ссылке — хороший политик умирает на своем посту»

Причины восстания
Колчаковское правительство нещадно взыскивали с сибирских крестьян налоги и недоимки, которые не платились при Временном правительстве. Чтобы добиться результата, к крестьянам присылали карательные отряды, которые производили аресты и порку. Другой момент, белые боролись с самогоноварением. Белое правительство хотело сохранить за собой алкогольную монополию и сберечь дефицитное зерно, из которого делался самогон. Эти меры сильно разорили и озлобили сибирское крестьянство. Можно было усмирить протестные настроения, разъяснив народу цели этих действий, но пропагандистская работа белого правительства была полностью провалена. Согласно исследованиям д. и. н. Дмитрия Николаевича Шевелева, Красная армия (2-я и 3-я советские армии) печатала в десятки раз больше агитационного материала, чем Сибирская армия:
общий объем информационно-агитационных изданий, распространенных в частях Красной армии, более чем в 43 раза превосходил количество печатной продукции, направленной за тот же период в колчаковские войска
Это ещё не учитывая другие формы работы с населением.
Дальше хуже. В марте 1919 года в Сибири началась массовая мобилизация. Призвали и тех, кто отслужил в Первую мировую войну. За 5 долгих лет народ устал от кровопролития и придерживался антивоенных настроений.
Ошибки при мобилизации стали катализатором восстания. Призывники часами на морозе дожидались поезда, который должен был отвезти их в Тюмень. А затем мобилизованные и в самом городе несколько часов ждали на холодной улице медицинского освидетельствования. Вдобавок они должны были купить на свои деньги обмундирование. Их разместили в ночлежном доме, где было неполное постельное белье. При всём этом призывники были предоставлены сами себе, никаких военных учений не проводилось.
Ход восстания
13 марта терпение мобилизованных кончилось и они пошли к оружейному складу, расположенному в Ремесленном училище на Садовой улице (сейчас ул. Дзержинского). Поход не оправдал ожиданий: патроны не подходили к имевшимся ружьям. Нашлось только 50 пригодных винтовок. С таким скудным арсеналом восставшие и пошли захватывать город.

Восставшие разделились на три группы: одни пошли в тюрьму освобождать заключенных, другие в концлагерь, а третьи направились к заводам, чтобы привлечь на свою сторону рабочих.
Колчаковская контрразведка ожидала восстания, но в более раннее время — в два часа ночи. Поэтому надёжные части гарнизона были подняты «под ружьё» и всю ночь не спали. Выступление началось в десять часов утра, когда гарнизон по иронии пошёл отдыхать.
Рабочие тюменских заводов не поддержали восстание: в начале марта после крупной забастовке им увеличили зарплату. Большая часть пролетариев достигнутым была удовлетворена.

Восставшим удалось захватить одну конвойную команду на Параходской улице, недалеко от набережной. Конвой подчинялся министерству юстиции и не был в курсе о мятеже, потому так легко сдался. Сдавшиеся не поддержали бунт и не выдали запас патронов — маленькая победа восставшим ничего не дала, кроме 15 незаряженных винтовок.
Дальше восставшие отправились к лагерю военнопленных. Большую часть контингента составляли пленные ещё Первой мировой войны — австрийцы, венгры, немцы и так далее. Кроме того, в лагерях стали размещать и пленных красноармейцев, которые как раз и присоединились к восставшим — в количестве 200 человек. Большая часть содержавшихся в лагере иностранцев отказалась поддержать восстание. Будучи образованными, они знали, что сейчас Колчак наступает к Волге. Они понимали: восстание — это бессмысленная авантюра, которая будет жестоко подавлена.

Одновременно с тем, как основные силы восставших захватывали лагерь военнопленных, другая их часть пыталась взять штурмом тюменскую уездную тюрьму. В ней содержались политзаключенные, около 800 человек, в основном большевики. Взять штурмом тюрьму с ходу не удалось: гарнизону из 30 человек помогли отбиться высокий забор и крепкие ворота. Тем временем подошли главные силы правительственных войск и рассеяли эту часть повстанцев.
На протяжении 2-3 часов в городе происходила своеобразная игра в «кошки-мышки»: колчаковские войска бегали по Тюмени, пытаясь нащупать ядро восставших. Им удалось это только к обеду. Такая неопределенность может быть связан как с растерянностью со стороны белых войск, так и с выжидательной позицией. Некоторые высматривали, насколько массовым станет мятеж. Может быть, к нему надо присоединиться, а не бороться с ним?
Восстание было стихийным и не массовым (в нем участвовало около 800 человек), ему противостояли профессиональные военные, а мятежники были плохо вооружены — провал был неизбежен. В последующие дни колчаковская контрразведка проводила массовые облавы по городу и задерживала всех подозрительных. Так восстание было подавлено окончательно.
CONCLUSIO (вывод)
Колчаковцы восстание подавили, при этом не сделав соответствующих выводов, продолжили ту же политику. Смертный приговор Колчаку был подписан. В августе того же 1919 года (через 4 месяца после восстания) Тюмень была освобождена РККА, а к концу 1919 года антиколчаковские бунты стали происходить часто и повсеместно. Режим «Верховного правителя России» доживал последние дни…
Подписывайтесь
Телеграм https://web.telegram.org/k/#@rakhmetru
ЯндексДзен: https://dzen.ru/id/661b8bbd879c62541a8a9a46
Чапаев
«Чапаев» — советский художественный фильм 1934 года. Главным действующим лицом картины является легендарный советский военачальник Василий Иванович Чапаев (1887—1919).
На I Московском кинофестивале 1935 года, председателем жюри которого был режиссёр Сергей Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили первую премию.
Начдив (начальник дивизии) Чапаев и его бойцы отбивают у чехов мост, ведущий на хутор. На мосту к Чапаеву подходит комиссар Фурманов, приведший ткачей-добровольцев (среди которых была Анка. На хуторе командиры в соответствии с приказом М. В. Фрунзе разрабатывают план наступления на станицу Аламихинскую. В занятой станице Чапаев объясняет на картофелинах своему заместителю комбригу Еланю, раненому в руку, действия командира во время боя. Ординарец Чапаева Петька обучает Анку стрельбе из пулемёта и пристаёт к ней.
Полковник Бороздин и белый поручик обсуждают в вагоне поезда опасность личности Чапаева («бывшего фельдфебеля») и превратности времени. Двое приходят жаловаться комиссару на Чапаева, который требует экзаменовать коновала на должность доктора и выдать соответствующий документ. Комиссар объясняет Чапаеву, что «интеллигенция» права и выдать документ они не могут. Казак Петрович приходит к полковнику с просьбой отменить расстрел брату-перебежчику, Бороздин заменяет расстрел на «телесное наказание».
Фурманов арестовывает комвзвода Жихарева за грабежи, устроенные его бойцами, и требует вернуть награбленное. Приходит Чапаев и спорит с комиссаром о том, кто является начальником дивизии и должен отдавать приказы об аресте. Приказ, отданный Фурмановым от лица Чапаева, исполняется, и награбленное возвращают крестьянам, которые приходят поблагодарить начальника дивизии. Чапаев собирает митинг, на котором предупреждает бойцов, что за грабежи будет расстреливать самостоятельно.
Петька экзаменует Анку по сборке и разборке пулемёта. Между персонажами возникают чувства. Петька уходит в разведку к белым за «языком». На реке он встречает удящего рыбу казака Петровича, брат которого Митька по приказу полковника Бороздина наказан шомполами и умирает. Петрович объясняет, что он исполняет предсмертное желание брата поесть ухи. Петька сжалился над ним и отпустил, за что был отдан Чапаевым под трибунал. Петрович ненавидит Бороздина из-за смерти брата и сдаётся в плен красноармейцам. Чапаев разрабатывает план действий, сетуя на недостаток патронов и людей.
Накануне атаки Чапаев узнаёт, что в результате «бузы» убит командир эскадрона Жуков. Чапаев берёт командование эскадроном на себя. Наступает офицерский полк, красноармейцы открывают по ним огонь. Психическая атака заставляет часть бойцов Красной армии покинуть позиции, но комиссар возвращает их. Пехота белогвардейцев под пулемётным огнём и градом гранат отступает. Новый натиск на позиции красных предпринимают казаки. На поле появляется красная кавалерия во главе с Чапаевым. Белогвардейцы бегут под натиском эскадрона Чапаева. Красноармейцы захватывают каппелевский штаб.
Фурманов отозван в Москву, а ему на смену приезжает на автомобиле новый комиссар Седов. Полковник Бороздин предлагает командующему фронтом дерзкий план рейда на Лбищенск, где находится штаб дивизии Чапаева, и вызывается возглавить нападение. Глубокой ночью казаки врываются в город и наносят сокрушительный удар по красным. Чапаев отстреливается от белых из пулемёта на чердаке дома. Анка уезжает за помощью к комбригу Еланю. Петька забрасывает ручными гранатами белогвардейский броневик, но затем белогвардейцы подкатывают к дому артиллерийское орудие, Петьке и раненому Чапаеву приходится отступать.
Анка прибывает к Еланю, тот поднимает дивизию. Чапаев и его товарищи бросаются в воды Урала. Казаки с крутого берега обстреливают красных, Петька погибает, прикрывая Чапаева. Чапаев и его люди один за другим тонут, сражённые пулемётными очередями. Прибывшая дивизия красных обрушиваются на белых, и те отступают. Спрятавшийся в сене крестьянин убивает полковника Бороздина.
Летом 1932 года братьям Васильевым было предложено снять фильм по сценарию «Чапаев», написанному Анной Фурмановой при участии В. Трофимова. Снять фильм о начдиве мечтал покойный супруг Анны Никитичны, писатель Дмитрий Фурманов, служивший комиссаром в 25-й дивизии в 1919 году и написавший в 1921 году роман о начдиве. Сергею и Георгию Васильевым рукопись сценария не понравилась категорически — он был написан людьми, далёкими от кинематографа, плакатно и дидактично. Но первооснова сценария увлекла их. Оба режиссёра знали о Гражданской войне не понаслышке, Сергею Васильеву в ходе её довелось командовать эскадроном. Васильевы взялись за изучение документов в архивах и в Музее Красной Армии, нашли и расспросили сотни бывших бойцов и командиров чапаевской дивизии в Москве, Ленинграде, Саратове. В Уральске и бывшем Лбищенске они побеседовали с участниками боёв на противоположной стороне — казаками белой Уральской армии. Одним из главных консультантов фильма стал соратник Чапаева, принявший командование 25-й дивизией после его смерти, комбриг Иван Кутяков. Как писали Васильевы позднее: «Несколько месяцев ушло на изучение и обработку всей массы материалов. И лишь после того, как мы почувствовали, что уже персонально знаем и крепко любим наших будущих героев, только тогда мы приступили к сценарию».
Васильевы критически оценивали все фильмы-предшественники по тематике Гражданской войны. На их взгляд, большинство из них либо страдало излишним натурализмом, либо за батальными сценами терялись живые герои — «стрельба ради стрельбы, дым и грохот… Пулемёты стреляли — люди безмолвствовали». Васильевы же хотели соединить эпическую легендарность участников Гражданской войны с реалистичностью их человеческих образов. Они настойчиво пытались отсеять среди легенд и мифов, которыми успел обрасти образ Чапаева в народной памяти, простые, обыденные, бытовые штрихи, которые оживили бы его образ для будущих зрителей. В ходе работы над историческими материалами Васильевы подготовили три варианта сценария: первый сохранился в рукописных тетрадях; второй был готов к началу 1933 года в виде машинописного экземпляра; третий вариант, под названием «Чапай», был датирован 1 июня 1933 года и стал первым произведением кинодраматургии, напечатанным в толстом литературном журнале («Литературный современник» № 9 за 1933 год). В ходе работы количество сцен будущего фильма росло от 57 в первом варианте, до 70 — во втором и 76 — в третьем. Варианты сценария свидетельствуют о борьбе желания вместить в сценарий множество ярких эпизодов, почерпнутых в ходе их изысканий и из бесед с соратниками Чапаева и его противниками, со стараниями сконцентрировать исторический материал, требованиями отбросить всё менее ценное, что не вписывалось во временные ограничения. В итоговом режиссёрском сценарии были оставлены 66 сцен, из которых лишь 57 вошли в фильм.
Из этих 57 сцен в фильме лишь четыре остались от изначального сценария, тоже в свою очередь изрядно переработанные — сцена с ветеринарами, речь Чапаева на митинге, сцены нападения на Лбищенск и гибель начдива в водах Урала. Остальные 53 сцены были написаны Васильевами заново. Были творчески переработаны воспоминания Фурманова о встречах с местными жителями, отсюда родился рассказ крестьянина-бородача о «карусели» красных и белых, и тех, и других грабивших крестьян. Из романа были взяты несколько строк об атаке офицерских батальонов, превратившихся в самую знаменитую батальную сцену советского кино. При этом в оригинальном тексте Фурманова белые приближались бесшумно, стремясь на рассвете захватить красноармейцев врасплох. В сценарии офицеры маршируют под барабанную дробь, не обращая внимания на павших товарищей. Реальный Чапаев в тот день был ранен в голову и не принимал непосредственного участия в бое, в сценарии он возглавляет конную атаку, решившую исход сражения. В сцене подготовки к этому бою ночью накануне Васильевы предпочли взять исходную запись разговора с начдивом в дневниках Фурманова, где Чапаев сравнивал себя с Наполеоном и готов был справиться и с армией, и с фронтом, а не переработанную эту сцену из романа и сценария.
Васильевы поставили себе задачу преодолеть очерково-документальный характер имевшегося оригинального материала, оставляя из него самые выразительные эпизоды, как чаепитие после боя или песни на отдыхе. При этом они расширяют, дополняют отдельные незначительные эпизоды, раскрывая характер своих героев. В своей книге Васильевы вспоминали:
"В кино, как и в любой области искусства, очень важны деталь, намёк… Фурманов вскользь упоминает о том, что Чапаев, браня раненого Кутякова, говорил — дурак, не знаешь места командира в бою. Этого было достаточно, чтобы создать сцену, в которой Чапаев, оперируя картошкой, трубкой и папиросами, даёт урок тактики своему соратнику." — С. и Г. Васильевы. "Чапаев Фурманова и "Чапаев" на экране". — "Литературная газета", 15 января 1935 г.
Один из эпизодов будущего фильма был целиком заимствован из книги Джона Рида о Мексиканской революции. Часовой, заслышав шорох в кустах, стреляет по ним, не пытаясь спросить пароля, оправдываясь перед комиссаром впоследствии: «Какая разница, ведь всё равно не попал». Восставшие малограмотные неопытные крестьяне в Мексике и России имели схожие черты и эпизод этот придал сочную краску фильму. Ещё одна сцена была творчески переработана из нравившегося Васильевым немого фильма Джеймса Круза. Герой ленты, изначально трусоватый, следует приказу «Садитесь!» в первых эпизодах. Обретая смелость по ходу картины, он уже сам использует эту фразу по отношению к своим бывшим обидчикам. В сценарии Васильевых в ходе горячей ссоры Фурманов упрекает Чапаева за его внешний вид. Затем уже сам Чапаев, признавший справедливость комиссара, повторяет замечание о «затрапезном виде» своему ординарцу Петьке.
При работе над образом Чапаева перед Васильевыми встала проблема — как представить реально жившего человека, но не ограничить себя в попытке представить в его лице целое поколение самородков из народа, которым революция и гражданская война дала шанс заявить о себе в полную силу:
"Не желая копировать Чапаева, не желая давать его фотографически, мы воссоздали его, потому что образ соединил в себе все типические черты, которые неотъемлемо должны были быть присущи Чапаеву… Отказавшись от узкой биографичности, мы ходом всего художественного процесса были приведены к наиболее полному воссозданию действительного облика Чапаева." — С. и Г. Васильевы. "Чапаев". О фильме". — 1936 г.
Одним из главных художественных приёмов в палитре работы над образом начдива стал контраст между плакатным, возвышенным, легендарным образом былинного героя в батальных сценах и подчёркнуто будничным, простым, и даже простоватым, образом Чапаева в сценах после боя. Герой Васильевых ломает сложившиеся на тот момент каноны, поступает не так, как можно было ожидать. Все его поступки выходят за рамки шаблонов, он абсолютно индивидуален, он не соответствует представлениям о положительном герое и этим вызывает интерес и сочувствие. Васильевы представляли себе противоречивость фигуры выходца из крестьянской среды — с присущими чертами анархизма, стихийности, протеста против рабского прошлого. Чапаев, вынесенный волной перемен в вожаки, должен был обладать могучей верой в свои собственные силы и возможности, но это должно было сопровождаться самомнением и самонадеянностью: «Я Чапаев! А ты… Кто ты такой?! Кто тебя сюда прислал?!»
Васильевы упорно перебирали множество вариантов сценарных решений, чтобы достичь определённости и целостности характера героя. Эти краски заиграют с первых кадров картины. Первое появление Чапаева в кадре стремительно и экспрессивно, парой слов он останавливает бегущих бойцов и увлекает их за собой. Далее следует знаменитый плакатный эпизод: ординарец Петька, слившийся с пулемётом, ведёт огонь, а начдив в заломленной папахе руководит боем. Эти кадры навсегда стали визитной карточкой фильма и на долгие годы — всего советского кинематографа. Но уже в следующих кадрах Чапаев будничен и прост, в сцене знакомства с комиссаром он сух и холоден. И на вопрос Фурманова, что делают искавшие брошенное в панике в реке оружие бойцы, Чапаев отрезает: «Купаются — жарко». Не преминул поддеть безграмотного в военном деле комиссара Чапаев и в следующей сцене — в ходе штабного совещания. Нарастающий конфликт между начдивом и комиссаром является главной линией развития сюжета. Сцена с ветеринарами, не желающими экзаменовать коновала, и сцена ареста за участие в грабежах боевого товарища Чапаева и осознание наступившего двоевластия в некогда принадлежащей лишь ему дивизии, становятся кульминацией развития конфликта, высшей точкой столкновения. Васильевы нашли психологически точный ход, позволивший Чапаеву сохранить лицо, с делегацией крестьян благодаривших за возвращение разграбленного имущества.
На роль Чапаева братья Васильевы хотели утвердить другого актёра, и на этот счёт существует несколько версий. Сам Бабочкин должен был сыграть Петьку, но актёр в мини-этюдах показал режиссёрам живого, чувствующего, настоящего Чапаева и убедил их в своём соответствии роли без внешнего сходства с Чапаевым. Из воспоминаний Бориса Бабочкина:
«О том, что мне придётся играть Чапаева, я тогда и не думал. Я только уговаривал Васильевых не делать ошибки в выборе актёра на эту роль… Доказывая им негодность некоторых кандидатур, я без всякой задней мысли в качестве аргументов предъявлял Васильевым такие черты этого актёра, что они просили меня попробовать грим. Я надел шапку и наклеил усы…»
«Чапаевым» могли бы стать:
Николай Баталов — отказался от роли. Официальная версия — из-за большой занятости, неофициальная — ему надоело сниматься в фильмах на тему Гражданской войны.
Василий Ванин — первоначально был утверждён на роль Чапаева.
Петька
На роль Петьки сначала был приглашён Яков Гудкин, но после начала съёмок стало понятно, что он не подходит на эту роль.
Альтернативные финалы
Братья Васильевы, опасаясь слишком пессимистичного финала фильма, сняли ещё два варианта концовки.
По Лбищенску маршируют войска красных. Раненые Анка и Петька проезжают мимо, на их лицах радость, за кадром звучат слова Чапаева: «Счастливые, говорю, вы с Петькой. Молодые. Вся жизнь впереди».
Снимался на родине Сталина, в городе Гори. В кадре — красивый яблоневый сад, в котором Анка играет с детьми. К ним подходит Петька, он уже возглавляет стрелковую дивизию. За кадром голос Чапаева: «Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо!».
Город беглецов
В Киеве фарс понемногу уже превращался в трагедию. Сначала штаб округа арестовал большевистский Революционный Комитет. Большевики в ответ подняли восстание. Кончилось тем, что “штабовцы” обменялись пленными с большевиками и ушли на Дон.
Булгаковых описываемые события коснулись непосредственно. Девятнадцатилетний Николайчик, младший брат Михаила, стал незадолго до этого юнкером Инженерного училища. В тот момент он находился в казарме в противоположенном от Подола, где жила семья, конце города. Сначала с ним можно было поговорить по телефону, но потом связи не стало. Встревоженная мать решила его навестить. Увидев сына, Варвара Михайловна немного успокоилась и отправилась, было, домой. Николаю разрешили отлучиться на пятнадцать минут, чтобы проводить ее. И тут как раз начался обстрел. «По счастью, – пишет мать Булгакова Наде в Царское Село, – среди случайной публики был офицер». Он приказал всем лечь на землю у самой стены, чтобы пули, выпущенные из винтовок и пулеметов, били по ней и отлетали рикошетом, никого не задев. Одна женщина все-таки погибла. В короткий промежуток между очередями перебежали обратно к Инженерному училищу. «Коля охватил меня обеими руками, защищая от пуль…» В училище юнкеры уже строились в боевой порядок, и Николка тоже встал в ряды. Варвара Михайловна понимала: добраться до дома сейчас вряд ли возможно. Но ее беспокоило, что другой ее мальчик, Ванечка, наверняка пойдет ее искать. В итоге нашелся офицер, который повел шесть мужчин и двух дам окружным путем в безопасный район. «Около самого оврага, в который мы должны были спускаться, вырисовалась в темноте фигура Николайчика с винтовкой… Он узнал меня, схватил за плечи и шептал в самое ухо: “Вернись, не делай безумия. Куда ты идешь? Тебя убьют!”, но я молча его перекрестила, крепко поцеловала, офицер схватил меня за руку, и мы стали спускаться…» «Какое это было жуткое и фантастическое путешествие среди полной темноты, среди тумана, по каким-то оврагам и буеракам, по непролазной липкой грязи, гуськом друг за другом при полном молчании, у мужчин в руках револьверы…» В час ночи она, наконец, добралась до дома. И только здесь позволила себе расплакаться. По словам матери, Инженерное училище пострадало меньше всего. «Четверо ранено, один сошел с ума»[1]. Это было только начало.
Большинство тех, кого в будущем назовут белогвардейцами, ушли на юг, и в городе осталось две реальные силы: большевики и Рада. Последняя вся насквозь была социалистическая – эсеры да эсдеки, но с националистическим оттенком. Ленин от Советов прислал ультиматум. Он требовал, чтобы Рада отказалась от попыток дезорганизации общего фронта, чтобы не пропускала без согласия никаких войсковых частей на Дон и на Урал, чтобы помогала революционному войску в борьбе с кадетами, и чтобы немедленно вернула оружие рабочим, если оно у кого было отобрано. Рада на это ответила, что «если Народные Комиссары Великороссии, принимая на себя все последствия зла братоубийственной войны, вынудят Генеральный Секретариат принять их вызов, то Генеральный Секретариат уверен в том, что украинские солдаты, рабочие и крестьяне, защищая свои права и свой край, дадут надлежащий ответ народным комиссарам, которые поднимут руку великороссийских солдат на их братьев-украинцев».
Руку великоросских солдат поднимать не пришлось, потому что нашлось достаточно местных. В Харькове организовалось альтернативное Раде большевистское правительство. Очень быстро красные захватили власть практически во всех городах Украины. Причем делали они это зачастую без стрельбы, просто пригрозив ставленникам Рады оружием. В конце концов, пришла очередь Киева, так что парламентарии вынуждены были бежать из города в сторону Житомира.
Деятели Рады понимали, что самостоятельно им у власти не удержаться, поэтому издали Четвертый Универсал, в котором провозгласили независимость Украины. А потом на переговорах в Бресте сговорились с Германией и Австро-Венгрией о том, что армии Центральных держав займут территорию только что созданного государства в обмен на продовольствие. Раде нужны были иностранные штыки, которые бы ее защитили, потому что своего войска не было. Часты были случаи, когда солдаты, особенно горожане, переходили на сторону большевиков. Немцам же необходим был хлеб, которого им катастрофически не хватало. Там же, в Бресте, выступавшие от имени всей России большевики подписали с Германией мирный договор на весьма невыгодных для себя условиях, «пахабный мир».
«Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль… После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз… Шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей»[2].
Как раз в этот-то момент Булгаков и вернулся домой. Что примечательно, в пассажирском вагоне на обыкновенном поезде Москва-Киев. Поезд, правда, был последний – после между Москвой и Киевом железнодорожное сообщение было надолго прервано.
Заняв Украину, немцы поняли, что с Радой каши не сваришь. Самый главный госслужащий премьер Винниченко заявлял, что, по его мнению, «все чиновники, какие бы они ни были — либеральные или реакционные — это наихудшие и наивреднейшие люди, к которым он всегда чувствовал враждебность и отвращение».
Понятно, что обещанного хлеба от правительства с таким главой ждать было бы по меньшей мере наивно. Представитель Австро-Венгрии в Киеве писал в Вену, что он попытался найти среди нынешней власти хоть сколько-то людей разумных, но попытки эти кончились неудачей. «Все они находятся в опьянении своими социалистическими фантазиями, а потому считать их людьми трезвого ума и здравой памяти, с которыми бы было можно говорить о серьезных делах, не приходится. Население относится к ним даже не враждебно, а иронически-презрительно». Нужно было решать: или объявлять оккупацию, или менять власть. Второй вариант был предпочтительнее.
Пока искали замену, фактически страной управлял фельдмаршал фон Айхгорн, командующий германскими войсками на Украине. Он без всякого стеснения раздавал распоряжения, вступавшие в явное противоречие с приказами Рады, и его офицеры эти распоряжения выполняли. Если представители Рады на местах оказывали сопротивление, им угрожали поркой, и все заканчивалось, как хотели немцы.
В конце апреля в цирке, самом вместительном здании Киева, собрался “Хлеборобский Конгресс”. Съехалось на него что-то около шести с половиной тысяч кулаков со всей Украины. В столицу они направлялись с твердым намерением покончить с Радой, которая постоянно угрожала им то социализацией, то национализацией земли. На конгрессе выбрали нового главу государства – гетмана. Им стал Петр Скоропадский, до революции служивший в свите Николая II. Это был более чем состоятельный помещик, в прошлом командир аристократического гвардейского полка. И тут же, еще до окончания Конгресса, отряды “гетьманцев” заняли все правительственные здания и учреждения. Захват заключался в том, что деятелей Рады попросту выгнали на улицу, не применив к ним никаких репрессий. Раду свергли без видимого участия немцев, но с их молчаливого согласия.
Скоропадский обладал примерно такой же легитимностью, что и Рада, но значительная часть населения, по крайней мере киевлян, отнеслась к нему лояльнее. Причина была в том, что в административных делах он быстро навел порядок. После хаоса предыдущего года это казалось каким-то невиданным достижением. Улицы стала патрулировать полиция-варта, стрелять перестали; на рынках появились хлеб и мясо.
И тут в Киев из Петрограда и Москвы хлынул поток недовольных большевиками. Там уже разогнали Учредительное собрание, и стало предельно ясно, что имущим гражданам от Советов ничего хорошего ждать не приходится. С фронта в город прибывали офицеры. Кто-то возвращался домой, кто-то, уехав из России царской, не желал возвращаться в Россию советскую, и оседал здесь, в Киеве.
«Город жил странною, неестественной жизнью… Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город… В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр "Лиловый негр" и величественный, до белого утра гремящий тарелками, клуб "Прах" (поэты – режиссеры – артисты – художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток»[3].
Это и в целом-то все было будто под кокаином. Мир этот был иллюзией, галлюцинацией, обманом чувств. Румянец этот был лихорадочным. И все в душе были уверены, что однажды это кончится. И кончится какой-то жестокостью. Поэтому город веселился пока мог. Каждый пытался получить как можно больше удовольствий, получить от жизни все, как будто этим можно запастись впрок.
[1] Воспоминания E.A. Земская
[2] "Белая гвардия"
[3] "Белая гвардия"
Скоро павший гетман
В Киеве Михаил решил заняться частной практикой. Еще когда работал в Никольском он съездил с женой в Саратов в отпуск. На этот раз отец Таси настоял, чтобы она взяла все-таки столовое серебро. Будто знал, что умрет в начале восемнадцатого и уже скоро ничем не сможет ей помочь. Теперь, в Киеве, Тася продала эти драгоценные приборы, и они купили все необходимое для приема пациентов. Специализироваться Булгаков стал на венерических болезнях. С фронта возвращались тысячи солдат, и все они удовлетворяли нужду у городских проституток. Вместе с удовольствием получали, разумеется, сифилис и разные другие половые инфекции. Так что Михаил мог неплохо зарабатывать.
Варвара Михайловна, наконец, повенчалась с Иваном Павловичем и переехала к нему. В доме 13 на Андреевском спуске осталась только молодежь. Прислуги теперь не было, и не привыкшим к такого рода самостоятельности барышням и молодым людям готовить еду и мыть посуду было страшно утомительно.
Уже в Вязьме Михаил пытался писать. Писателем он стал в наркотическом опьянении. Когда в очередной раз доктор Булгаков укололся и вошел в состояние эйфории, ему пришло в голову, что можно ведь изобразить всю эту безумную жизнь земского врача, какой он жил в Никольском, в цикле рассказов. И зависимость от морфия тоже. Ничего подобного на его памяти не было никем написано. Тогда-то он и начал вечерами ставить литературные опыты. Тасе хотелось почитать то, что он натворил, но Михаил не давал ей. В литературе, по его мнению, она ничего не смыслила, так зачем? Позже, в Киеве, оправившись от болезни, он отредактировал свои тексты и прочел их друзьям. Придирчивый слушатель отметил бы, что произведения начинающего литератора, что называется, “под сильным влиянием”. Булгаков, очевидно, собственный голос еще не расслышал, и потому сильно подражал Викентию Вересаеву, выпустившему в 1901 году “Записки врача”. Да и Антон Павлович Чехов тоже, кажется, поучаствовал в создании произведений. Впрочем, друзья начинающего литератора оказались критиками лояльными, а один – будущий прототип Лариосика в “Белой гвардии” – так даже воскликнул: «Это восхитительно, замечательно!» Больше всего их впечатлила, конечно, фабула, а не язык или построение повествования. Именно спасение человеческих жизней их впечатлило.
Михаил и Тася всё, как и в свой довоенный период, спускали на сладкую жизнь. Иногда так этим непрерывным праздником увлекались, что приходилось потом занимать деньги у родственников. Сладость, однако, была разбавлена горькими разговорами о том, что и страна эта “гетьманская” какая-то странная, ненастоящая и веселье неестественное. И слухи-слухи-слухи. Никто ничего толком не знал. Газеты печатали противоречивые статьи, ничего не прояснявшие, и только путавшие мысли.
В начале июня произошел взрыв на Зверинце. Около двухсот погибших, тысяча раненых, десять тысяч потеряли жилье. Через неделю огромный пожар на Подоле. В конце июня застрелили средь бела дня фельдмаршала фон Айгорна. Кто устроил взрыв и пожар непонятно. Одни говорили, что это французы постарались, другие грешили на большевиков. Что до командующего германскими войсками, то тут во всяком случае все было ясно – его застрелил эсер. Тактика индивидуального террора социал-революционерами была обкатана еще на императорах и их министрах.
Гетман легкомысленно отнесся к деятелям из Рады. Они, и правда, не имели никакого влияния, и Скоропадский решил: пусть идут на все четыре стороны, и проповедуют свои социалистические идеи, где хотят – все равно их никто слушать не станет. Арестовал, было, прежнего военного министра Симона Петлюру, но потом и его освободил.
Главной целью пребывания немцев на Украине был хлеб. В самой Германии, находившейся под эмбарго, уже случился голод зимы 16-17 годов, когда всей страной ели исключительно брюкву. Чтобы получить хлеб, немцы действовали иногда жестоко. Зерно выкупали, но иногда и попросту отбирали. Если какой крестьянин выражал недовольство, вразумляли его ударом приклада по лицу. Когда бунтовало целое селение, стреляли шрапнелью. Гетман по этому поводу недовольства не выражал, и даже, напротив, отправлял на помощь немцам своих “сердюков”.
«И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь ненависти при слове "офицерня" и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа:
– Вся земля мужикам.
– Каждому по сто десятин.
– Чтобы никаких помещиков и духу не было.
– И чтобы на каждые эти сто десятин верная гербовая бумага с печатью – во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.
– Чтобы никакая шпана из Города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю.
– Чтобы из Города привозили керосин»[1].
Вот тут-то лозунги социалистов-националистов и легли на сердце селянам. Раньше это были крики в никуда. Крестьяне всегда относились к любым переменам насторожено. Но теперь, когда покушались на их собственность, они возненавидели и немцев, и гетмана, будь он проклят. Среди них, между прочим, было немало таких, которые с войной были знакомы не понаслышке. Только что вернувшиеся с фронта, они еще не забыли, как пользоваться винтовками и орудиями. И начала собираться многотысячная армия под командованием Симона Петлюры, Головного Атамана Украинской Народной Республики, еще одного новообразования. Среди членов очередного правительства – Директории – все те же лица, что и в Раде. То, что они совсем недавно сами же немцев на Украину и пригласили, члены Директории предпочитали своим “куреням” не сообщать.
Свитский генерал Скоропадский, слишком много времени проведший при дворе Николая, мечтал, судя по всему, о собственном троне. Именно поэтому он продолжил политику украинизации, начатую Радой. Политика эта в городах не пользовалась популярностью совершенно. Стоит только сказать, что когда в Киеве была открыта гимназия с преподаванием на украинском языке, то учеников набралось немногим больше сотни. И это при миллионном населении. Гетман хотел было перевести административные учреждения на украинский, но не нашлось достаточного количества толковых чиновников, владеющих языком.
Курс на самостийность отталкивал от гетмана офицеров, как русских по происхождению, так и украинцев. Идти в его армию и сражаться за суверенную Украину они не хотели. Скоропадский по тем же примерно причинам разругался с Деникиным, формировавшим как раз в это время свои части на Дону. Вопреки широко распространенному мнению среди белогвардейцев был не очень большой процент людей, которые готовы были отдать жизнь за русского царя. У лидеров белых явным монархистом был только барон Врангель. Остальные видели главную свою задачу в уничтожении большевизма, то есть воевали они против комиссаров, а не за императора. Понятно поэтому, что о новом самодержце непонятной страны Украины никто в этом стане и слышать не хотел. Позже, когда и гетман, и белая гвардия потерпели поражение, многие говорили, что если бы тогда Скоропадский отказался от своих амбиций, объединился с Деникиным, объявил мобилизацию, и они пошли бы на Москву со стороны Курска с сытой и вооруженной армией, то большевикам в восемнадцатом году пришел бы конец. Но Скоропадский мечтал о собственном троне.
В восемнадцатом Первая мировая доконала еще две монархии: Австрийскую и Германскую. Немцы оставляли Украину. Делать на чужой земле им было больше нечего – у них и на своей был бардак. Что до французов и других членов Антанты, то заменять здесь своих противников они не захотели, во всяком случае на всей территории. На Антанту молились до последнего, включая, кажется, и Скоропадского. Но британцы и французы высадились в Одессе и Севастополе. Однако внутрь материка, как оказалось, двигаться вообще не собирались, засели в портах.
Булгаковы тоже ждали союзников и читали прессу. Вот вполне характерная статья в номере газеты “Вечер” от 26 ноября: «Жертвы долга. Опубликован новый список убитых в бою с петлюровцами офицеров. Сегодняшний список заключает в себе 33 убитых… 18 трупов до того обезображены, что опознать их нет никакой возможности. Трупы совершенно раздеты, у них вырезаны языки, отрезаны носы, уши, пальцы рук и ног и разрезано все тело»[2]. Это больше походило на дикие времена Тараса Бульбы, чем на двадцатый век. Но газетам приходилось верить: горожане время от времени видели, как везут на отпевание множество покойников в закрытых гробах.
В действительности пост, о котором речь, стоявший на окраине города, растерзали не петлюровцы, а одна из стихийно образовавшихся крестьянских банд. Впрочем, такие банды при подходе частей Директории, охотно вливались в ряды армии УНР, и в значительной степени из них она и состояла. Но в Киеве никто ничего не знал. Откуда идут петлюровцы? Сколько их? Чего от них ждать?
«Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!»[3] Вот в наиболее резкой форме то, что чувствовал в те дни Михаил, его друзья и родные.
Петлюра договорился с немцами о нейтралитете последних. 14 декабря 1918 года Скоропадский написал “отречение”, и его тут же вывезли в Германию. Главнокомандующий князь Долгорукий исчез, никого не предупредив. Кое-где еще продолжали вербовать добровольцев для защиты города, а по улицам уже шли петлюровцы. Увидев бегущего человека в военной форме с кокардой или любыми другими знаками отличия, они убивали его на месте, независимо от того, оказывал он им сопротивление или нет. Без штаба никакой организованной защиты, разумеется, не получилось. Да если б и был штаб, силы все равно были неравные.
«– В чем дело? В чем дело, скажите, ради бога?..
– Дело? – иронически весело переспросил Малышев, – дело в том, что Петлюра в городе. На Печерске, если не на Крещатике уже. Город взят. – Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно, не как актер-любитель, а как прежний Малышев. – Штабы предали нас…
– ...а там, в музее, в музее...
Малышев потемнел.
– Не касается, – злобно ответил он, – не касается! Теперь меня ничего больше не касается. Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас. На убой не послал! На позор не послал! – Малышев вдруг начал выкрикивать истерически, очевидно что-то нагорело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не мог. – Ну, генералы!»[4]
[1] "Белая гвардия"
[2] Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова
[3] "Белая гвардия"
[4] "Белая гвардия"
На мосту
Недобитых офицеров и юнкеров собрали в Педагогическом музее, двери заперли. Николка, брат Михаила, тоже там был. Он сказал: «Господа, нужно бежать. Это ловушка». Никто не решался. Тогда он один поднялся на второй этаж и через окно выбрался из здания. Прыгнул довольно удачно в сугроб и оказался во дворе родной Первой гимназии – Педагогический музей вплотную к ней примыкал. Здесь ему, на счастье, встретился старый гимназический сторож Максим, который еще его старшего брата препровождал за ухо к директору, когда тот озорничал. Этот Максим спас Николку – дал ему штатскую одежду. В юнкерской форме его, конечно же, пристрелили бы. Что произошло с теми, кто остался в музее? Одни говорили, что кто-то кинул бомбу, и почти все погибли. Другие утверждали, что их вывезли немцы в Германию на специальном поезде.
Что до Михаила, то днем он, как и следовало, прибыл на свой медицинский пункт. Туда должны были доставлять раненых, но их никто не привозил. Не было никакой организованной защиты города. Только бешеное бегство от неприятеля дворами, переулками, согнувшись. И чувство, будто ты зверь, на которого идет развеселая охота…
Довольно быстро Михаил сообразил, что делать на пункте нечего, и даже – о чудо – сумел поймать извозчика, чтобы добраться до дома.
Трупы офицеров долго никто не убирал. Они медленно разлагались на морозе и становились добычей крысиных стай. Многие лежали без сапог: нищие прибарахлились. Войска Директории тем временем показывали парады, торжественно хоронили своих. Вернулось все то же, что было и при Раде: еврейские погромы, грабежи и стрельба по ночам. Как-то обчистили соседа снизу. Сначала, правда, посетили Булгаковых. «Пришли синежупанники. Обуты в дамские боты, а на ботах шпоры. И все надушены “Coeur de Jeannette” – духами модными. “У вас никто не скрывается?” Кого-то они искали. Смотрят – никого нет. Как раз Михаил собирался уйти, он в пальто был. Они полезли под стол, под кровать, посмотрели туда-сюда, потом говорят: “Идем отсюда, тут беднота, ковров даже нет. Тут еще квартира есть – может, там лучше!” И пошли вниз… Вот там они разошлись!..»[1]
Доктор Булгаков продолжал заниматься частной практикой и ждал, как и почти все горожане, с нетерпением большевиков. Потому что больше ждать было некого. Красные наступали с севера и, согласно слухам, с огромными силами. Жовто-блакитные покинули Киев через сорок пять дней после того, как заняли его – в ночь со второго на третье февраля 1919 года. И ночь эту Булгаков запомнил на всю жизнь.
«Я застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу. На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом… Кратко, в переводе на русский язык: "…предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения..." Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батько Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании...»[2]
Вот как вспоминала эту ночь Татьяна Николаевна: «И вот в третьем часу вдруг такие звонки!.. Стоит весь бледный… Он <был> совершенно невменяемый, весь дрожал. Рассказывал: его уводили со всеми из города, прошли мост, там дальше столбы или колонны… Как-то немножко поотстал, потом еще немножко. За столб, за другой и бросился в переулок бежать. Так бежал, так сердце колотилось, думал инфаркт будет… После этого заболел, не мог вставать целую неделю. Приходил часто доктор Иван Павлович Воскресенский. Была температура высокая. Наверно, это было что-то нервное. Но его не ранили, это точно»[3].
«Что-то нервное» с Булгаковым приключилось не потому, что он бежал, и его могли пристрелить. Это была бы малость. Произошло нечто худшее. Он потом рассказал жене. Когда он с петлюровскими полками переходил на левый берег Днепра по «страшному» Цепному Мосту, в нескольких метрах от него убивали человека. Убивали долго и жестоко. А Михаил все решался и никак не мог решиться на то, чтобы вступиться за него. По чести, нужно было сделать это, но такой поступок обрекал его самого на гибель, быть может такую же мучительную.
«Человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сипло:
– Ух... а...
– А, жидовская морда! – исступленно кричал пан куренной, – к штабелям его, на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться. Я т-тебе покажу! Что ты робив за штабелем?..»
Булгаков шел рядом, пытался не смотреть в ту сторону, но все равно скашивал глаза. Он просил, просил, просил Бога, в которого еще недавно не верил, чтобы тот послал сюда большевиков. Он воображал, как они вылетят подобно урагану из черной тьмы, и какой-нибудь матрос в бушлате прикончит выстрелом проклятого петлюровца. Но никаких матросов не появлялось.
«…окровавленный не отвечал яростному пану куренному. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей, блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, черный не ответил уже "ух"... Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул набок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих»[4].
Михаил и сам недолюбливал евреев. Это было распространено, особенно на Украине. Когда правобережная часть была еще в составе Польши, паны часто нанимали евреев управляющими. Никакой любви появиться из таких отношений не могло. Десятилетия за десятилетиями копились мифы, местами совершенно нелепые, например, про то, что евреи пьют кровь христианских младенцев на своих тайных службах. В такое Михаил, конечно, не верил. Но в целом он тут был как все.
Но теперь, когда при нем так жестоко и ни за что убивали человека – человека, а еврей он или нет в тот момент стало совершенно не важно! – и он, доктор Булгаков, тот, кто должен спасать любого в соответствии с клятвой Гиппократа, ничего не мог с этим сделать, Михаила это выбило из колеи на месяцы. По-настоящему он избавился от назойливо возвращавшегося к нему кошмара только лет через десять. А до того его все терзала мысль: «Но я... я... интеллигентская мразь!»[5]
Пятого февраля город заняли красные. Утром вошли небольшие отряды местных украинских большевиков из пригорода. «Во главе ехали два всадника, разукрашенных красными широкими лентами. В правой руке каждый держал револьвер, в левой бомбу». За ними еще три бойца с винтовками, далее броневик и замыкал шествие оркестр. На Крещатик они вышли под Интернационал. «Публика – широкий пролетариат – кричала “ура”, все снимали шапки»[6]. Это из дневника киевлянина, видевшего все своими глазами. Вообще, какие бы войска ни занимали миллионный город – будь то красные, белые или жовто-блакитные – радостно встречающая публика находилась для всех.
Вечером подоспели и регулярные красноармейские части.
Большевики немедленно переименовали все улицы, расставили повсюду неумело выполненные бюсты Маркса-Энгельса и принялись выпускать собственные газеты, в сущности, огромные агитки. По части пропаганды, нужно отдать им должное, они были большими мастерами.
Буржуев, живших в Липках, выгнали из домов. Брать разрешали только верхнюю одежду. Потом приехала ЧК и стала искать врагов Октября. Это вначале чекисты отпускали после разъяснительной беседы, в начале 18-го. К этому времени сантиментов никаких не осталось. «Расстреливали на Печерске, на улице Садовой, в Кирпичных конюшнях». «Там был устроен даже сток для крови. Трупы совершенно наги»[7]. На стенах следы человеческих мозгов.
«При красных на улицах вообще пусто было, все по домам сидели, никто не показывался. Потом уже потихонечку вылезать стали. Облавы устраивали, чтоб на работу шли… чуть свет на работу гнали, потом перерыв на несколько часов и опять. Люди не высыпались, ходили сонные. У меня удостоверение о туберкулезе было. У многих удостоверения были»[8].
Как-то прошел слух, что Петлюра возвращается. Дезертиру Булгакову было чего опасаться. К тому же его могли мобилизовать большевики, чего ему, разумеется, очень не хотелось. Поэтому «одно время ушли в лес… Жили у какого-то знакомого по Киево-Ковельской дороге, в саду, в сарае. Обед варили во дворе, разводили огонь. Недели две… Одетые спали, на сене. Варя, Коля и Ваня, кажется, с нами были»[9]. Потом поняли, что так жить невозможно, и вернулись пешком обратно, на Андреевский спуск. Единственного дома, принадлежавшего Булгаковым, тогда уже не существовало – бучанскую дачу спалили петлюровцы, разведшие посреди одной из комнат костер.
Призыва избежать не удалось. Булгаков стал военврачом РККА и отправился под Белгород воевать с конным корпусом добровольческого генерала Шкуро. Лечить красноармейцев Михаилу было не по душе. Как только представилась возможность, он перебежал на сторону белых. Этот факт перехода своей биографии он скрывал потом всю жизнь, и родным также внушил, что о его мобилизации красными никогда – никогда, вы слышите! – упоминать нельзя. Хотя то, что был врачом у белых он не скрывал.
По приказу командования корпус вскоре был переброшен на Северный Кавказ в подкрепление сил Эрдели. Конкретно Булгаков попал во Владикавказский госпиталь[10].
Киев тем временем взяли добровольцы. Наступление белогвардейцы начали в конце августа. Большевики вынуждены были оставить город, чтобы уменьшить линию фронта. Одновременно с запада вернулась и Директория.
Как известно, Галиция, западная часть Украины, в самом конце XVIII века в результате последнего раздела Польши отошла Австрии. Теперь, в начале XX века, галицийские “сердюки” были самыми дисциплинированными и опасными подразделениями войск УНР. Но Петлюре подчиняться желали не очень-то. Бывший австрийский офицер генерал Кравс, который вел свою армию на Киев, вообще именовал “головного атамана” не иначе как “неудавшимся попом” и “цыганом”[11].
Киева войска УНР и белогвардейцы достигли одновременно 30 августа. И тут Петлюру постиг удар. Галичан в этом наступлении было 40 тысяч, собственно петлюровцев 10 тысяч. Петлюра был полон решимости объявить войну Деникину. Но Кравс предал и договорился с генералом Бредовым, командовавшим наступлением Доброармии на киевском направлении, что галичане, во-первых, покинут город, во-вторых, пойдут с белогвардейцами против большевиков.
[1] Т.Н. Лаппа. Интервью
[2] "Необыкновенные приключения доктора"
[3] Т.Н. Лаппа. Интервью
[4] "Белая гвардия"
[5] "В ночь на 3-е число"
[6] Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова
[7] Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова
[8] Т.Н. Лаппа. Интервью
[9] Т.Н. Лаппа. Интервью
[10] По другой версии он еще успел вернуться в Киев, увидеть родной город занятый белой гвардией и только потом попал на Кавказ. Это, однако, весьма маловероятно – в Деникинской армии было не принято отправлять кого бы то ни было куда бы то ни было: все добровольцы сражались там, где и приходили на пункты призыва.
[11] Петлюра, как многие верили, был сыном полтавского цыгана; был исключен из семинарии
Кавказ
Белых тоже встречали восторженными криками, и публики набралось, пожалуй, поболее, чем при встрече красных. Но они, как и их предшественники, начали расстреливать и развлекать себя еврейскими погромами не хуже петлюровцев. Мстили за своих, искренне уверенные, что большевизм – это результат всеобщего сионистского заговора. Мстили, припоминая, что многие чекисты евреи, да и среди «народных комиссаров» есть выходцы из «этих». Взаимная жестокость дошла до предела, без крови ни одна сторона больше обходиться не могла.
«Я вам скажу, по-моему, ждали белых. Это интеллигенция, а как другие, я не знаю. Генерала Бредова встречали хлебом-солью, он на белом коне… торжественно все так было… А боялись Петлюру. И страшно боялись большевиков, тем паче. Но когда пришли белые, то было разочарование. Страшное было разочарование у интеллигенции. Начались допросы, обыски, аресты… Спрашивали кто у кого работал…»[1] У Доброармии тоже была своя «чрезвычайная комиссия», называлось «контрразведка».
Но все-таки город оказался в руках тех, кого Булгаковы, если закрыть глаза на некоторые вещи, могли назвать “своими”. Два младших брата Михаила, Коля и Ваня, вскоре определились в юнкера. Они желали участвовать в этой войне, чтобы позже не корить себя за бездеятельность. Варвара Михайловна ничего не могла с этим поделать.
Занятый частями Доброармии Киев начал меняться. Татьяна Николаевна: «Помню… открылось новое кафе такое… неприличное. И вот я обязательно хотела туда попасть. И просила кого-то из друзей меня туда сводить, а тот смеялся: “Ну и легкомысленная женщина! Муж… на фронте, а она думает только о кафе!” А я и не понимала – на фронте или нет: действительно дура была!..»[2]
В Ростове, где Булгаков оказался с корпусом Шкуро, он, желая убить время, пошел играть на бильярде. У него в руках была Тасина «браслетка», которая, как он был уверен, приносит ему удачу. Он специально перед отъездом выпросил ее у жены. Но то ли Михаил заблуждался по поводу магических свойств браслетки, то ли на сей раз случился сбой в ее функционировании. В общем, на этом самом бильярде его так обчистили, что именно ее-то, эту самую браслетку, и пришлось заложить. Случайно там же в Ростове оказался Костя “японский”, и Михаил его, что уж совершенное чудо, встретил. Костя выкупил из ломбарда дамское украшение, подаренное Тасе матерью, когда еще та была гимназисткой. Очередное доказательство того, что эти двое – Михаил и Татьяна – «так подходят друг другу по безалаберности натур»[3], как выразилась однажды в дневнике Надя Булгакова.
Тася и на этот раз не оставила его – при первой же возможности отправилась на Кавказ. «Предупредили: если в Екатеринославле махновцы, поезд разгромят. Боялась, конечно…»[4] Батько Махно держал в страхе район радиусом километров сто от родного села Гуляй Поле. Его летучие отряды насчитывали иногда до тридцати пяти тысяч буйных голов. Меняя «реквизированные» у крестьян подводы, они делали переходы иногда по сто километров в день. Один раз совершили набег на Екатеринослав и перебили там немало буржуев. Было чего бояться. Но добралась Тася благополучно.
Из Владикавказа Михаила очень скоро перевели в Грозный. Усмирять непокорных чеченцев. Точнее, служить «начальником санитарного околодка 3-го Терского казачьего полка». Терские казачки и кубанцы подавляли восстание “туземцев” из Чечен-аула и Шали. Тася «раза два-три ездила с ним в перевязочный отряд – под Грозный. Добирались до отряда на тачанке, через высокую кукурузу. Кучер, я и Михаил с винтовкой на коленях – давали с собой, винтовка все время должна была быть наготове… В кукурузе ингуши прятались и могли напасть. Приехали, ничего. Он все посмотрел там. Недалеко стрельба слышится. Вечером поехали обратно. На следующий день опять так же. Потом какая-то там врачиха появилась и сказала, что с женой ездить не полагается. Ну, Михаил говорит: “Будешь сидеть в Грозном”. И вот я сидела ждала его… Уезжал утром, на ночь приезжал домой. Однажды попал в окружение, но вырвался как-то и все равно пришел ночевать…»[5] На кой черт ему нужно было таскать с собой женщину на этой тачанке? Странные это были в чем-то отношения.
«Чеченцы как черти дерутся с "белыми чертями". У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках. Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят водой»[6].
Михаил испытывал такое чувство, будто все происходящее вокруг – это только длинный, скверный сон. Он был азартный бильярдный игрок, но азарт сражений его не прельщал. И ощущение страха не превращалось у него в отвагу, как бывает у некоторых. Это все было ему совершенно чуждо.
Он боялся смерти, боялся чеченцев и даже теней боялся.
«Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... аминь!
Тьфу, черт возьми!
– Поручиться нельзя, – философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзности этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок, – заскочуть с хлангу. Бывало.
Ах, типун на язык! "С хлангу"! Господи Боже мой! Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок в огненных отблесках. "Поручиться нельзя"! Туманы в тьме... Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности? При чем здесь я!!.. Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе»[7].
Один раз действительно не повезло: выскочили с визгом и… Он легко отделался – его только контузило. За полчаса до того он пытался помочь полковнику, раненному в живот. Михаил знал, что рана смертельная, помочь ничем нельзя. Он попытался полковника успокоить, как-то ободрить. Но тот оборвал его: «Напрасно вы меня утешаете. Я не мальчик». Это были его последние слова.
Полковник был не мальчик, а Булгаков был все еще мальчик. У Михаила в голове не укладывалось: как можно вот так принимать свою смерть? Он начинал дергаться от одного только воспоминания о том полковнике. Этот мужественный человек появился потом в “Белой гвардии”, под фамилией Най-Турс.
Когда восстание было подавлено, Михаил с женой ненадолго перебрались в Беслан. «Жили в поезде… Вообще там ничего не было кроме арбузов. Мы целыми днями ели арбузы… И еще солдаты там кур крали…» Потом вернулись во Владикавказ. «Маленький такой городишко. Но красиво. Горы видны… Полно кафе кругом, столики прямо на улице стоят… Народу много – военные ходят, дамы такие расфуфыренные, извозчики на шинах. Ни духов, ни одеколона, ни пудры – все раскупили… Музыка играет… Весело было»[8].
Михаил стал служить в том же госпитале, в котором и до отъезда. Он получал довольно приличное денежное довольствие, и жаловаться им с Татьяной было, в общем-то, не на что. Даже и в обществе каком-никаком стали бывать, завели некоторые знакомства. То есть завел, конечно, Михаил. «Ой, с кем он только не знакомился! Это такая крутила была – что-то ужасное!» – восклицала много лет спустя Татьяна Николаевна, характеризуя своего мужа. Ходили на вечера к казачьему атаману и генералу с генеральшей. Новый 1920-й год как раз у генерала Гаврилова и встречали. «Много офицеров было, много очень пили».
За генеральшей Ларисой Михаил начал ухаживать. За Татьяной же стал слегка волочиться атаманов сын Митя. В общем, светскую жизнь вели они в этом Владикавказе.
Еще до приезда Таси Михаил впервые увидел напечатанным свое творение. Он и раньше, еще в Киеве, мечтал об этом, но дальше слов дело не шло. Да и как было в Киеве начинать журналистскую карьеру, если туда сбежались в те годы лучшие перья Петербурга и Москвы. Родственники только беззлобно посмеивались над его прожектерством. Но здесь, во Владикавказе, можно было и рискнуть. И что же, получилось: здешние редакторы сочли его тексты достойными своих изданий. Жена только и сказала ему: «Поздравляю тебя! Ты же всегда этого хотел». В общем, «чем бы дитя ни тешилось».
Первая статья называлась “Грядущие перспективы”. Написана она была напыщенным слогом и призвана была, очевидно, поднять боевой дух офицеров Вооруженных Сил Юга России, с которым в последнее время были серьезные проблемы. Когда Корнилов затевал белое движение (хотя белыми их назвали позже большевики, но прижилось), он рассчитывал, что красноармейцы скоро будут настолько голодны, что у них попросту не будет сил жать на курки своих ружей. Якобы не способны красные на какую бы то ни было организацию, и их это рано или поздно погубит. Мы, мол, наблюдаем стихийный бунт, который однажды захлебнется сам в себе. Но комиссары оказались умнее, чем о них думали. Они сумели собраться и правильно повели военные действия. Больше того, на сторону красных перешло немало опытных царских генералов. К тому же белые недооценили силу пропаганды. Большевистские вожди облекали свои коммунистические идеи о социальной справедливости в понятные лозунги вроде «Грабь награбленное!» – и те шли умирать. Даже если и голодные. К большевикам перешло немало инженеров. Ленин объявил свою программу ГОЭЛРО прямо посреди войны. И инженеры увидели, что это то, чего они просили у царских властей годами, десятилетиями. А тут им давали раскрыться, звучало, во всяком случае, многообещающе.
Что противопоставляла им белая гвардия? Они воевали за то, чтобы собрать Учредительное собрание и лишь потом решить, что делать с Россией. Во всяком случае, донская часть белых. Разве это достойно того, чтобы умереть? Вдруг там завтра учредят вовсе не то, ради чего предстоит умирать сегодня?
И однажды белые, если не осознали, то почувствовали, что победа не будет так легка, как ожидалось. А многие, пусть и не признаваясь в этом никому, поняли, что, может, никакой победы и вовсе не случится. Булгаков писал: нужно, геройски проливая свою кровь, пядь за пядью вырывать землю у Троцкого. И когда, наконец, победа будет одержана, придется смириться с тем, что именоваться мировой державой Россия еще долго не сможет – до такой степени все разрушено. Там, на Западе, будет процветание и технический прогресс, а мы будем все зализывать раны. И только наши дети, если не внуки, станут жить нормально. Такие невеселые перспективы. Статья должна была внушить добровольцам, что пора перестать надеяться на легкий выигрыш, да и потом не будет легко.
Однако порядочный человек может звать на смерть, только если сам готов к той же участи. Готов ли был военврач Михаил Булгаков сам к смерти? Судя по его рассказам, не вполне.
Да и каково было проливать кровь после того, как он, проходя мимо кафе, наблюдал тамошнюю публику. Франты в лакированных ботинках, дамы в шуршащих платьях с томными голосами. Они поглощали пирожные с кофеем по-варшавски. И вели светские беседы. О том, что красные взяли Ростов, представляете!
[1] Т.Н. Лаппа. Интервью
[2] Т.Н. Лаппа. Интервью
[3] Воспоминания E.A. Земская
[4] Т.Н. Лаппа. Интервью
[5] Т.Н. Лаппа. Интервью
[6] "Необыкновенные приключения доктора"
[7] "Необыкновенные приключения доктора"
[8] Т.Н. Лаппа. Интервью
АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII ВЕКА | КАВАЛЕРЫ КАРЛА ПРОТИВ КРУГЛОГОЛОВЫХ КРОМВЕЛЯ

«Промо уровень»
Обзор книги С. В. Кондратьева "Английская революция XVII века".
ВОЙНА, СОЗДАВШАЯ ОРУЭЛЛА | ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ

«Промо уровень»
Рассказываем о повести Джорджа Оруэлла "Памяти Каталонии", которая стала предтечей его антиутопий, в годы Гражданской войны в Испании.
«Белый след» в СССР: судьбы тех, кто остался. Часть 1. Белые в Красной Армии.

«Уровень 1»
Про бывших белогвардейцев в СССР — их непростые, но интересные судьбы. Первая часть — про бывших белых в Красной Армии.
Про выборы в США и то, что за ними последует
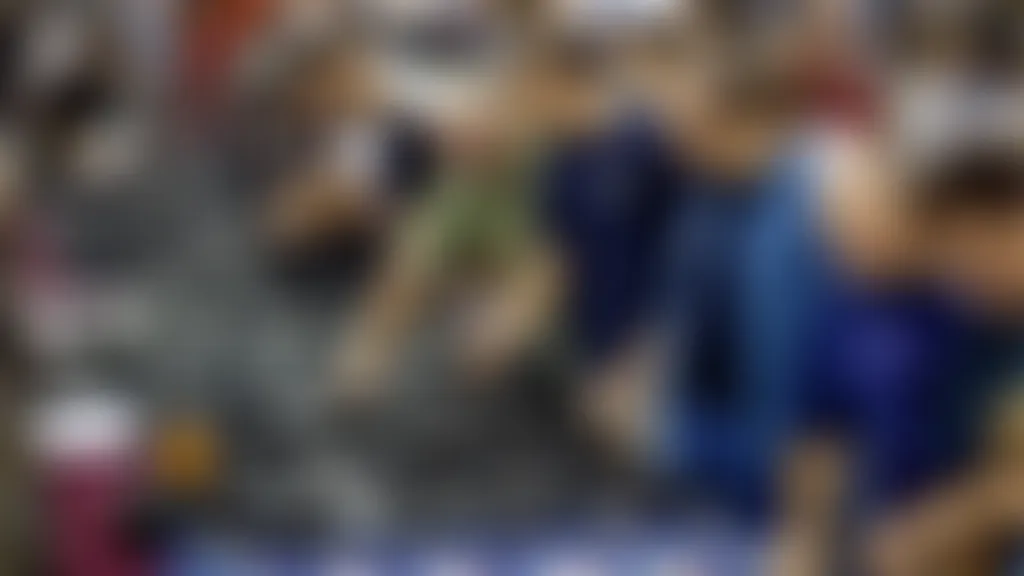
«Базовый уровень»
Пара слов о происходящем в Валиноре в эти самые дни и некий намёк на то, что может там начаться в ближайшие недели и месяцы.