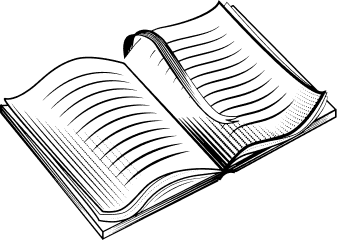Пожалуй, пора чуть подробнее рассказать, кто такая Татьяна Лаппа. Ее отец был податным инспектором – чиновником Минфина и налоговой службы, выражаясь в современных терминах. Его кидало по стране, но ничего плохого в этом не было: частые переезды свидетельствовали о том, что карьера у Николая Николаевича вполне задалась. Сначала он служил в Рязани, потом в Екатеринославле, дальше был назначен управляющим Казенной палатой в Омск и, в конце концов, его перевели в Саратов. К тому времени он уже стал действительным статским советником – серьезное достижение для государственного служащего Российской империи.

В роду Лаппа был один декабрист, разжалованный в рядовые без лишения дворянства. Сам Николай Николаевич закончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета с дипломом первой степени. Но в ученые не пошел, а стал служащим. Человек был разносторонний, и кроме естественных наук, любил и драматическое искусство. «Отец очень театром увлекался, даже играл в городском театре <в Екатеринославле>, Островского вещи, любовников. Очень смешно – продавался такой его портрет на бумаге вроде газетной и вот мальчишки бегали и кричали: “Артист Лаппа – 5 копеек!” Ему даже предлагали там… артистом стать, а мать сказала: “Если пойдешь в театр, я уйду от тебя…”»[1] Это, конечно, все были шутки. Николаю Николаевичу нравилась его профессия. Это был толковый чиновник столыпинского типа, мало что общего имевший с героями Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Кстати, Столыпин и являлся его патроном некоторое время, пока губернаторствовал в Саратове.
Когда случались съезды податных инспекторов, в доме давались обеды на сто персон. Как тогда было принято, своему непосредственному начальнику подчиненные дарили столовое серебро и другие ценные вещи. Николай Николаевич был не то чтобы очень, но все-таки богат. Богатство, однако, его не портило. Своих детей он старался не баловать. «Когда отец уезжал куда-нибудь, он привозил вещи только матери, нам не полагалось ничего. Одевали нас просто». Хотя более ранее детство в Екатеринославле Татьяна Николаевна описывала так: «Мы там в маленьком домике жили. Няня у нас была, водила нас гулять. Как 20-е число, мы отца встречали, жалованье тогда давали, и он покупал всем что-нибудь. Потом шли гулять на бульвар или в Потемкинский сад. Катались там на качелях. Мать очень красивая была…» Отец, по словам Татьяны Николаевны, отличался как добротой, так и строгостью. Если он вдруг брал себе что-то в голову, то переубедить его было уже невозможно. Еще Николай Николаевич любил разводить цветы – такое было хобби у управляющего Казенной палатой.
Тася любила читать и обожала театр. И то, и другое не оттого, что любить театр и чтение – это хорошо, а не любить театр и чтение – это плохо. Просто ей действительно это доставляло удовольствие. Она даже толком не могла бы сказать, почему так происходит. Ровно также, как читать или посещать оперу, ей нравилось кататься на коньках. Ради катка она без всяких колебаний могла пропустить учебу – и делала это не раз. «Училась я очень плохо. Отвратительно училась. И прогуливала я часто. Спрячу книжки и иду на каток. В Коммерческом клубе был. А когда обратно, то забираю. Конечно, мне попадало. Однажды мать меня даже за волосы оттаскала. Мать очень добрая была, все хлопотала по дому, с детьми. Но вот когда она со мной занималась, все время била»[2].
Чтение и опера были для Таси запретным плодом. Книжки она таскала из запертого шкафа, в театр ходила несмотря на то, что отец ей этого не разрешал. Вообще ребенком она была, мягко говоря, непослушным. «Папа не пускает меня на концерт или куда-нибудь – все равно убегу с черного хода».
В Киеве, когда она познакомилась с Булгаковым, тот повел ее катать на лодке по Днепру. Тася сказала: «А я умею грести». И так начала грести, что лодка чуть не перевернулась. Михаил отобрал у нее весла со словами: «Нет, грести вы не умеете», - и показал себя мужчиной, который на этом деле собаку съел.
Сначала сестре Михаила Наде казалось, что ее брат гораздо больше любит свою молодую жену, чем она его. Но прошло не так уж много времени, и она изменила свое мнение на противоположное…
Варвара Михайловна ошибалась, когда говорила, что семейная жизнь – это сложно. Молодым было, напротив, очень легко. «Киев тогда был веселый город, кафе прямо на улицах, много людей…»[3] Ходили в ресторан “Ротце”, в кафе на Фундуклеевской, зимой катались на бобе по бобслейным горкам, Миша обожал играть на бильярде… Как-то принес кокаину. Тасю от него стало тошнить, а Мишу потянуло в сон – в общем, не понравилось.
«Чем жили? Отец присылал мне деньги, а Михаил давал уроки… Мы все сразу тратили… Вообще к деньгам он так относился: если есть деньги – надо их сразу использовать. Если последний рубль и стоит тут лихач, сядем и поедем!.. Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит – ни колец, ни цепи моей. “Ну, значит, все в ломбарде” – “Зато мы никому не должны!”»[4] Такое отношение к деньгам Булгаков, судя по всему, сохранил на всю жизнь.
Михаил венчался, и должен был бы, по мнению родни, остепениться, то есть стать сдержанным и рассудительным. Но нет, все у него шло, как и раньше. Та же беспечность и беспечальность. Он и Тася даже и еды себе не готовили никакой: утром утоляли голод московской колбасой из магазина “Лизель”, обедать ходили к матери, вечером – в кафе.
Лето проводили в Буче все в тех же забавах. Михаил по-прежнему любил шокировать мать и всех окружающих каким-нибудь парадоксальным суждением, обожал ниспровергнуть походя какой-нибудь авторитет. Совершенно ничего не изменилось. Разве только, он стал усерднее учиться.
Беспечность, беззаботность, легкость... А потом все начало рушиться и исчезать.
Летом четырнадцатого года Миша и Тася поехали к родным в Саратов. Но кататься на лодке теперь уже по Волге и болтать о пустяках им не пришлось. Началась Первая мировая. Мать Татьяны, дама-патронесса Саратова, организовала на общественных началах госпиталь при Казенной палате, – туда потянулся поток раненых. Евгения Викторовна попросила Михаила помочь, и он стал делать перевязки солдатам. Тася тоже пыталась участвовать: таскала на пятый этаж ведра с едой, но вскоре муж запретил.
В сентябре вернулись в Киев. Отец предложил Тасе увезти с собой столовое серебро. Та не взяла. «Буду я эту тяжесть за тридевять земель тащить!» – объяснила она свой отказ.
Тут случилась личная трагедия, которая ударила по Михаилу, как и работа в госпитале, выводившая его из беспечности.
«Милая Надя! Собиралась тебе писать, но была прямо не в силах. Теперь я сама удивляюсь своей выносливости. Чем дальше, тем события вокруг меня делаются головокружительнее и, не переставая, бьют меня по нервам… О смерти Бори Богданова ты знаешь уже от Вари… Он экстренно вызвал к себе Мишу и тут же при нем застрелился. Промучился ночь и на другой день умер… Миша вынес немалую пытку…»[5] Это письмо Варвары Михайловны дочери в Москву.
Боря Богданов был лучшим другом Михаила, еще гимназических времен. В доме Булгаковых он появлялся почти ежедневно. Матери у него не было, и Варвара Михайловна относилась к нему всегда с особенной лаской и заботой. «Борис был такой веселый», – вспоминала Татьяна Николаевна.
Это было мальчишество. Кто-то обвинил его в малодушии – видимо, не без основания – и этого оказалось достаточно, чтобы он убил себя. Способ мог быть только один – выстрел из револьвера. Всякий другой метод, будь то повешение или отравление, считался недостойным. Ко всему прочему он сделал это при лучшем друге…
Боря Богданов был вестником того, что все переменится, и больше никогда не будет прежним. Мир начал разрушаться на глазах.
Так, чтобы было объявлено о начале мировой войны – и женщины зарыдали, и лица посерели, и нормальная жизнь кончилась… Ничего подобного не происходило. Бои были делом военных. Они шли где-то на западе, и всей остальной империи касались слабо. Ощущалось, конечно, некоторое беспокойство. Университет – все факультеты, кроме медицинского – перевели в Саратов. Газеты пестрели громкими заголовками о наступлении противника или об отступлении противника. В город пребывали составы с беженцами. И – главное свидетельство, что война все-таки реальна – госпитали исправно наполнялись искалеченными телами. Очень многие девушки, в том числе и сестры Михаила, добровольно, из милосердия и без всякой платы ухаживали за ранеными. Но вечером они переодевались и шли в театр. При этом повторяли раз за разом: «Грех какой! После стона, которым пропитана перевязочная, уходить в море сладостных звуков!» Но не могли иначе. Юноши рвались на фронт, желая прославиться невиданным доселе геройством и вернуться с Георгием на груди. Они совершенно не представляли, какие грязь и боль ждут их там.
Булгаков тоже рвался. Правда, не в армию, а в военврачи. Как только закончил университет, попросился во флот. Комиссия признала его негодным по здоровью. Тогда записался в Красный Крест, зауряд-врачом. Вскоре его госпиталь было решено перевести поближе к театру военных действий. Тася поехала вслед за ним.
«Я тоже приехала туда. Вдруг объявили, чтобы жены уезжали в 24 часа. Я уехала, но не прошло, наверное, и двух недель, как пришла от него телеграмма. Михаил приехал за мной на машине. Солдаты спросили пропуск, он протянул рецепт – они были неграмотные…»[6]
Молодой врач оперировал, оперировал и оперировал. Операции, правда, были всё одного и того же рода. «Там очень много гангренозных больных было, и он все время ноги пилил. Ампутировал. А я эти ноги держала. Ой, так дурно становилось, думала, сейчас упаду. Потом отойду в сторонку, нашатырного спирта понюхаю и опять. Потом привыкла… Он так эти ноги резать научился, что я не успевала… Держу одну, а он уже другую пилит».
Судя по описанию Татьяны Николаевны, никакого особого впечатления Первая мировая на Булгакова сначала не произвела. К слову, пока она шла, ее называли Великой Отечественной. Михаил всегда, по ее словам, был беспокойным, болезненно раздражительным и легко возбудимым. И работа в прифронтовом госпитале не изменила его. Не был он потрясен “ужасами войны”, как это принято называть. Во всяком случае внешне. Трудно сказать почему. Возможно, включились какие-то защитные механизмы психики. Или он начал играть тут роль врача, который не имеет права бояться крови.
Это длилось около полугода. Потом его срочно вызвали в Москву. Собственно, он погорячился, записавшись в Красный Крест. План властей для ему подобных был иным: видавших виды земских врачей бросить на войну, а на их места направить вчерашних студентов. Булгакова ждало какое-то глухое захолустье среди бескрайних российских просторов.
[1] Т.Н. Лаппа. Интервью
[2] Т.Н. Лаппа. Интервью
[3] Т.Н. Лаппа. Интервью
[4] Т.Н. Лаппа. Интервью
[5] Воспоминания E.A. Земская
[6] Т.Н. Лаппа. Интервью