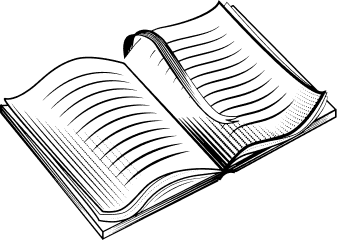У прозорливца Сорокина в «Голубом Сале» был пугающий термин «скриптор»; не думал, что доживу до такого времени, когда продукция реальных скрипторов будет продаваться в магазинах под видом русской литературы.
Саша Филипенко: «Красный крест», Время, 2017, и «Кремулятор», Время, 2022
Лет 20 тому назад, в начале 00-х, откуда ни возьмись явились на полки несколько книжек молодых и совсем юных писательниц, которых поспешили назвать новым словом и надеждой русской литературы. В книжных, куда тогда еще было принято ходить, я эти книжки пролистывал. Помню недоумение, с которым я листал странные страницы, где крупными буквами и короткими предложениями описывались истории «как я носила плейер и он сломался» и «как я надела черные штаны и этому дураку они не понравились». Вскоре надежды умерли, писательницы исчезли без следа, но тут Лера Пустовая придумала «новый реализм» и завертелось такое, что никак не развертится и по сей день. Имен этих девочек сейчас не помнит даже Яндекс, девочковое околобытовое письмо как-то быстро вытеснилось мальчиковым (Лекух, ранний Прилепин, вот это все), но я думаю, что те забытые девочки были первым, преждевременным, предупредительным сигналом о наступлении на неподготовленного читателя нечистой лавины новой искренности и литературы травмы.
Спрос на низший сорт будет всегда. Уже давно не реже раза в год мне суют под нос здоровенный кирпич какой-то армянки под названием «Дом, в котором»: советуют, говорят, прочесть хорошую книжку, рекомендуешь? Рекомендую: сжечь. Там, в этой 1000-страничной глыбе, то ли дети под видом зверей, то ли звери в виде детей живут в огромном доме типа безразмерной общаги и ходят друг к другу в гости чай пить и разговаривать на бытовые темы, но это не Винни-Пух. Написано это дело наикондовейшим языком задушевного соцреализма: заколосились озимые, расталдыкнулись лучи по белу светушку; но много лет ведь читают эту дрянь, в которой от русского языка только 32 буквы и остались. Нет, я нежно люблю графоманию, в грязном океане любительского письма иной раз находятся дикие алмазы типа Тармашева или Цормудяна (которому к первому изданию на бумаге вычистили грамматику и орфографию). Но куда чаще, к сожалению, выуживается из глубин и, бывает, награждается премиями мелкая нечисть с комплексом ВПЗР. Яркий образец бездарной нечисти, которой стало гораздо комфортнее в нишах «искренности» и «травмы», чем в прежних, требовавших знаний и умений, жанрах, попался мне вчера. На арене грустного цирка русской литературы—писатель «Саша» Филипенко, лауреат «Русской премии» и «Ясной Поляны», финалист «Большой Книги» и так далее, автор 6 (коротких) романов, 2 из которых я вчера прочел.

За роман «Красный крест» (2017) меня надоумила взяться аннотация, в которой изд. «Время» обещало «шокирующую на грани правдоподобия историю молодого героя, сжатый как пружина сюжет, парадоксальную развязку», а вдобавок все это «напрочь перешибает добытый им документальный ряд». Понятно, кто верит аннотациям, но не наврут же полностью? Не наврали. И «сжатый как пружина сюжет» оказывается…
...монологом страдающей альцгеймером старухи из бывших, обращенным к случайному собеседнику, тому самому с неправдоподобной историей, да. Монолог происходит в условных декорациях лестничной клетки в 2000 году—наверное, оттого только, что автору нужен был еще живой свидетель эпохи,—в Минске (почему Минск, я понял не сразу; начиная книжку, я не знал, что автор белорус). Старуха назойлива, она преодолевает грубое сопротивление собеседника, который переживает какую-то пока непонятную драму и совсем не хочет ее слушать, и их первые диалоги, как скоро станет ясно, окажутся самым живым эпизодом книги.
Очень скоро голоса старухи и ее собеседника, Саши, становятся неотличимы, Филипенко переводит речь обоих в тот отвлеченный регистр, в каком принято писать «прямую речь» воображаемых персонажей в модных колонках-фичерах, и старуха с интонациями инструкции к пылесосу начинает рассказывать всю свою жизнь. На монотонном рассказе старушки, которая зачем-то ставит красные кресты на дверях подъезда (тут меня осенило: это же тот Красный Крест, документы которого старушка в молодости перепечатывала в наркомате, и тот красный крест, который безликий собеседник поставит, наконец, на ее могилу; вот автор молодец, как увязал-то ловко, а!) книжку можно и закрывать, уже ясно, что дальше ничего не будет, кроме Русской Катастрофы, картонных Палачей НКВД и прочих поездов на Самарканд. Но я все еще хочу разобраться, кто у нас поэт, а кто неизвестно кто, поэтому продолжаем разговор и вскоре—о, вскоре заскучавший читатель стремительным домкратом получает душераздирающую сцену Первой Травмы и Катарсиса!
В пасторальном швейцарском городке, где в 1930-х совсем молодая героиня живет как дочь советского дипломата, из нее (автор не уточняет, изо рта или из носу) вылетает огромная зеленая сопля и падает прямо под ноги жаркого итальянца, который, как мы узнали за секунду до, «должен был стать первым ее мужчиной»! Случился конфуз века. Девушка с изменившимся лицом бежит страдать, а спустя неделю отец по служебным обстоятельствам забирает ее в Москву. Напоминаю, что все это старушка, страдающая альцгеймером, рассказывает некоему Саше без определенных примет, который от личной травмы переехал из Екатеринбурга в Минск, прямо на лестничной клетке. К сожалению, у истории про соплю есть два больших недостатка: она не получает вообще никакого развития и вообще никак не отражается в дальнейшем сюжете, и «душераздирающей» девичья сопля является весьма условно, поскольку автор пренебрегает богатством русского языка, избегает эпитетов и в целом прилагательных, пишет скудно и «нарративно». Такая вот «литература факта». Оказывается, это сознательный выбор.
В интервью эмигрантской швейцарской газете Филипенко говорит, что у него есть редактор (в Москве), который звонит Филипенко (в Швейцарию) и указывает вырезать все красивые фразы, которые находит. Потому что красивое, говорит Филипенко, может любая девочка написать. Писать как Набоков или Пришвин—«это несложно», буквально. Очень жаль, что такого ученого редактора не нашлось для Гузели Яхиной, которая свои незамысловатые идеи «кровавый Сталин ввел всех в тяжкий блудняк» так усердно заворачивает в эрзац-Набокова с эко-Пришвиным, что глазам больно. Реально, опус магнум Яхиной про запретную любовь пьяного Ивана с подконвойной татаркой я не смог читать, хотя пытался несколько раз. Но видел разок в Уфимском национальном театре постановку на башкирском языке, весьма постколониальную. Филипенко все-таки белорус, а не татарин, и до вульгарного постколониализма не опускается, и вообще осторожно предпочитает фиксироваться на ужасах НКВД без прямых параллелей с современностью (роман «Травля» я не читал, боюсь; судя по аннотациям, это будет непищевая смесь бихевиористского внутреннего монолога с Планом Даллеса в исполнении соевиков).
Так что единственной красивой фразой, которую пропустил редактор, становится—внимание!—«Колоссальный пресс эмоций». Да, с точкой на конце. Право же, только ради нее стоит прочесть роман «Красный крест» до половины. Это великая фраза, я считаю. За нее одну можно было дать «Русскую премию». Книги Филипенко, получившей эту премию, я не читал, но уверен, что там тоже что-то нарраторское, травматичное и однозначно вызывающее колоссальный пресс эмоций. Давит, давит современная русская литература читателя, а он крепок, соплей не перешибешь. Фактом его прессуй! Вот мы добрались и до фактов.
В качестве достоинства романа «Красный крест» преподносятся авторские изыскания в архивах Красного Креста. Большими блоками Филипенко цитирует письма от Красного Креста в СССР о советских военнопленных, списки их в немецких и румынских лагерях, предложения об обмене. Ответов на эти письма от СССР в архивах нет, поэтому Филипенко додумывает резолюции Молотова и прочих палачей: «Не отвечать», пишут они на письмах, и не хотят вступать ни в какие контакты с поправшими все договора и договоренности гитлеровцами. Ну, так в книжке написано. А старушка с альцгеймером в то время еще молода и перепечатывает эти письма на машинке, так она рассказывает на лестничной клетке тихушному собеседнику, а тот в душевном кризисе и уже не сопротивляется. Уже почти не может сопротивляться душной простыне романа и читатель, но...
...на этом факты закончились.
Все остальное идет по максимально упрощенному шаблону. Старушка, разумеется, уезжает в ГУЛАГ и многое претерпевает. Дочь ее погибает от голода (дело происходит уже после войны, но тем не менее) в детдоме. Травма слушателя старушкиной истории Саши, происходившая оттого, что его мертвая жена 3 месяца пролежала на аппарате ИВЛ и из неодушевленного состояния родила дочь, а родственники были против такого богопротивного дела, быстро проходит с помощью соседки снизу, которая приносит комедию на ноутбуке и уже на второй встрече у них все было (серьезно, Филипенко так и пишет: «после того как все случилось, мы лежим»). Среди этих фантастических банальностей слегка цепляет только достойный вильяма нашего шекспира поворот в финале книжки: нам показывают бывшего советского военнопленного, который вышел из немецкого лагеря один, потому что всех своих солагерников сдал органам по освобождении, живет в глухом поселке при советском уже лагере в Пермском крае и прилежно чистит там снег у памятника Сталину.
Есть там и проходная история про исчезающую голову этого Сталина с далекого полустанка, но мне мнится, что автор вставил ее в роман из заготовок, слишком она журналистская. С тем же успехом она могла оказаться и в новейшем романе Филипенко, «Кремулятор» (то же изд. «Время», 2022). Спустя 5 лет автор не изменяет удачному (нет!) приему и точно так же строит текст на внутреннем монологе, пересказывающем всю жизнь директора Донского крематория Нестеренко с помощью наводящих вопросов картонного собеседника-следователя (на этот раз своей драмы ему не доложили). Точно так же главный герой—из бывших, воевал, спасся из Крыма, шатался и маялся, вернулся, руководил. Лично сжигал, как кочегар Балабанова, крупных совслужащих во времена Большого Террора. У меня здесь это заняло две строчки, 22 слова, и я ничего не пропустил, кроме бестолкового пережевывания зверств коммунистов в короткой 2 части (пожалуй, даже более косноязычного, чем описания зверств ЦРУ в «Ошибке резидента») и 3 части, где автор решил выпендриться, назвать ее «Жизнь» и не написать ни единого слова вообще. Саша Филипенко эти 22 слова надул в целый роман.
Надувает он рОман не очень внимательно. Я писал выше, что под пренебрежение чистым русским языком, по Филипенко «красивостями», у него подведена целая теория. Но не в красивостях только дело. Герой ведет свой монолог на скучном, бедном, но современном языке. Не раз он упоминает Большой Террор и репрессии—эти термины вошли в оборот лишь много лет спустя, говорит про «контекст», который явно не входил в регистр разговорной речи в 1940-е, и, внимание, в сцене первого же допроса рассказывает о некоем коменданте «из Украины», который расстрелял всех своих коллег. Прокол, гражданин Филипенко. Или провал?

Был такой писатель Рыбаков, приключенческие книжки которого читали все советские дети, а потом он раз, и написал «Детей Арбата», которыми зачитывались уже все взрослые. Лет 10 назад я имел глупость этих одиозных «Детей Арбата» открыть. И тотчас закрыл: написано безнадежно плохо, по глупому тенденциозно, схематично и в целом неприятно. Прекрасно помню, как увлеченно я сам это читал на советской даче: удивительное тогда овладело нами помрачение мозгов. Теперь-то для этого есть страшное слово «псиоп», а ведь еще на моей памяти тех, кто разоблачительному умопомрачению не поддавался, буквально из людей выписывали! Оба Великих Разоблачения, хрущевское и горбачевское, дали такого мощного пинка по пятой точке русской культуры, что их флешбеки недобро аукаются нам по сей день. Филипенко, Яхина, целый групешник других писателей и писателек с курсов «креативрайтинга», люди не очень талантливые, но в целом благонамеренные (все ж не Серенко какая-нибудь), за какие грехи вас Сталин покусал? Саша Филипенко! В «Красном кресте» у тебя есть гигантская сопля, дочь от мертвой жены, уникальные документы; что ж ты ими пренебрегаешь? почему с Лерой со 2 этажа ты просто лежишь и смотришь в потолок (цитата)? В «Кремуляторе» у тебя целый Донской крематорий, все его покойники и страсти и снова документы; для чего же у тебя весь «нарратив», как сопля зеленая, тягуче выходит из внутреннего монолога на допросе, и монолог этот записан будто передовица «Медузы»? Похоже, я знаю, почему эти сопли у них так тяжело жуются.
Я не люблю слово «провинция». Оно обидно, несправедливо и в России последних двух пятилеток попросту нерелевантно: всюду жизнь. Но насколько я знаю Минск (иногда бывают заказы оттуда)—это оно. А провинцию в голове не перешибешь, сколько лет ни проживи в Москве или там в Швейцарии. И эта аутостигматизация в духе великой песни «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой» лежит в основе «литературы травмы», к которой, без сомнения, писанина Филипенко принадлежит. «Травму» прилежно подкармливают жалость к себе и безволие, а их причины выносятся во внешний мир, который злобно гнетет. Тут-то и и пора достать из могилы кровавого Сталина, а кто посмелее и бесшабашнее, хватают во враги себе и мировому счастью Путина или там Лукашенко. Из этой же травмы происходит и нищий язык, и скудоумная фантазия: чем больше самоограничений, тем больше продуцируется жалости, и тем величественней и непреодолимей травма. И вот наконец провинция в голове, чуток осмелев от обиды, берется за реальные документы, как Филипенко в «Красном кресте» и «Кремуляторе», и получается тихий пук, потому что реальная жизнь—это ошизительная драма, полная любви, изумительности и зла, а ты, Саша Филипенко, забыл язык, на котором эта жизнь с тобой когда-то говорила.
Перечень обид, которые кидает настоящая жизнь в литературу травмы, невелик. В общем, он исчерпывается в корпусе литературы для старшего школьного возраста, ничего не могу сказать про новый модный жанр young adult, с которым пока не нашел сил ознакомиться. Но Филипенко уже взрослый, и вынужден подтягивать в свое травмированное письмо объекты из реального мира. И вот в обеих книжках, похожих друг на друга как пара обрывков бумаги в сельской будке, в постной водице обезжиренного языка у него мокнут «уникальные» документы из открытых архивов: письма Красного Креста времен Войны и дело начальника Донского крематория Нестеренко. Ничего авторского, уникального, никакой окраски Филипенко этим старым бумагам не дает. Сложные метания Нестеренко по континентам будто сшиты нейросетью из белых, а затем красных мемуаров и не представляют ничего любопытного: кто читал их пару десятков, читал их все (есть, однако, большая разница: у людей с раньшего времени было принято владеть русским языком как родным, а от писателя XXI века это, похоже, не требуется). У Филипенко есть прием: взять несколько невыдающихся документов, вложить их в предсказуемый, сотни раз описанный нарратив, упаковать в формат «рассказа о жизни» и опа! готов еще один роман. Назовем точнее, рОман. И дадим этому приему, с грустной рожей жевать давно пережеванное, честное имя: письмо из задницы.
Пусть цветут все цветы, даже в навозной куче. Здоровому человеку от такого письма вреда не будет. Я вот прочел эту макулатуру и не стал антисоветчиком. Является, конечно, традиционная мысль, как грустна наша Россия, но так как пишет Филипенко из рук вон плохо, мысль эта направляется в неожиданную, наверное, для автора сторону: как грустна Россия, в которой можно заработать на таком дерьме.
Не все, однако, так толерантны, как я. Внучка Нестеренко грозится подать в в суд на автора за оскорбление памяти ее деда (достанется и издательству, тиснувшему на обложку книги реальную фотографию из личного дела). Это в Германии. А в Москве в январе до премьеры снят спектакль по «Кремулятору». Забавно, что автор и режиссер напирают на то, что исполнителю главной роли пришла повестка из военкомата, будто они в самом деле наворожили какие-то «репрессии». Симптоматично, что не на свою голову.
02.03.2024
p.s. Уже написавши этот текст, я полез в Википедию справиться. И обнаружил, что «Кремулятор» стал «лучшим европейским романом» по версии французской лит. премии Transfuge, и поставлен по нему в Берлине спектакль; некто Супер пишет: «Нестеренко божественно сыгран у Диденко Максимом Сухановым».
Об отмене московского спектакля и скандале с потомками героя романа Википедия умалчивает. Надо думать, московские тиражи для Филипенко тоже дороги и героя он из себя не лепит. Сказал бы спасибо—да не за что.
p.p.s. Оказывается, та "Русская премия", кот. получил прохвост Филипенко, выдавалась Ельцин-центром и закрыта в 2017 году. А буквально вчера организована новая "Русская премия" от АСПИ для пишущих по русски за рубежом. Правильно, чего хорошему неймингу пропадать.