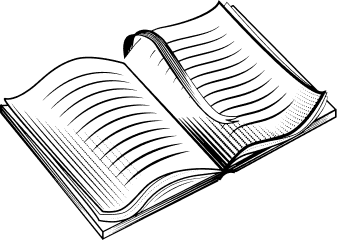Достоевский переписывает третий том «Мёртвых душ»
В «Мёртвых душах» поначалу даётся довольно двусмысленное описание главного героя: он не то чтобы толст, но, однако ж, и не так чтобы тонок. Но со временем — деталь за деталью — открывается правда про лишний вес Павла Ивановича. Так, когда он на радостях после успешных покупок делает в комнате антраша, то мебель начинает трястись, а когда взбирается в свою бричку, то сильно нагибает её набок, потому что (здесь уже рассказчик говорит прямо) Чичиков был несколько тяжеленек.
Само по себе это можно было бы отнести к простой иронии: Павел Иванович не хочет признавать очевидного и, как и все полные люди, приобрёл излишне округлую постепенно и незаметным для себя образом. Знаменитое лирическое отступление про толстых и тонких (что одним достаётся женское внимание, а другим — высокие чины и деньги) заканчивается авторским признанием, что такие (или примерно такие) мысли терзали на балу и самого Чичикова как раз в тот момент, когда он не мог определиться, по какому маршруту ему здесь пойти.
Подобно собственному слуге Петрушке, который всякий раз обижался, когда ему говорили о необходимости принять баню или хотя бы проветрить помещение, барин обижается на очевидное. Но, мало того, Павел Иванович к полноте стремится — она для него служит признаком успеха. О жене и доме, полном детишек, он только мечтает (в способности жить в воображаемом мире и довольствоваться воображаемыми наградами Чичиков вполне схож с Маниловым — неспроста с ним он проще всего поладил), тогда как приятные округлые формы смотрят на него прямо из зеркала.
И когда крах первой карьеры сказался и на его облике, то Павел Иванович это сразу приметил: «Какой же я стал гадкий!» Думаю, раздражало его не собственное похудевшее отражение, а то, что он терял ту меру успеха, которую сам себе назначил, даже выстроив вокруг неё целую теорию (Фёдор Михайлович описал бы это со всем возможным психологизмом, и тогда стало бы очевидно, что Чичиков — это литературный папа Раскольникова). Полнота здесь выступает в роли родионовской фигуры Наполеона, имеющего право на беззаконие. Чичиков более практичен и приземлён, но тоже с теорией: он — человек действия, который хочет решать свою судьбу сам, не идя на мелкие сделки, а навязывая условия обществу (как навязывал цену за сладости богатым однокашникам, сперва убедившись, что они голодны и не будут торговаться, или диктовал условия для сделки контрабандистам, лишь получив все полномочия). Нечистоплотность его методов уравновешивается в его глазах несправедливостью, как он считает, к нему жизни. Он игрок, который пользуется слабостями системы и недомолвками правил, психолог, играющий на человеческих слабостях, но забывший, что и сам их тоже не лишён.
У Чичикова есть и своя психологическая теория: собственно, то самое лирическое отступление про толстых и тонких есть способ деления людей по их целеполаганию и ценностям, которым они служат всей душой. Если облечь это рассуждение персонажа в более конкретную форму и прибавить к нему те самые мечты, которые он откладывал на потом, и персонажей, которых встречал (и о которых складывал мнение), то люди делятся на тех, кто а) гонится за статусом (и из всех плотских грехов выбирают самый примитивный — чревоугодие), б) волочится за юбками, в) мечтают о семейном благополучии, г) просто мечтают (лень у Манилова идёт рука об руку с постоянными прожектами, точно так же халатным образом (буквально не вылезая из халата) и внезапно всплывший Кифа Мокиевич, которой не может отвлечься даже на воспитание сына), и мечта уже есть их награда, д) стремится всё контролировать (теряя всё, как Плюшкин, у которого, если что и осталось, то сгнило и пропало), е) всё превращает в игру (обманы Ноздрёва невыгодны ему самому (кроме шулерства, но даже им он не умеет пользоваться — спуская всё более удачливому сопернику сразу же после первого успеха)) и ж) хочет избежать любой ошибки (Чичиков не понял этого в Коробочке, и это его погубило — чтобы тот её как-нибудь не обманул, она и раскрыла его афёру (прибавив от испугу совсем уж нелепых подробностей)).
Такая подробная категоризация людей роднит Чичикова скорее с другим персонажем «Преступления и наказания» — очень похожим на него внешне следователем Порфирием Петровичем, который, кстати, в минуту откровенности (по всей видимости, с Порфирием нельзя быть до конца уверенным) признаётся убийце Раскольникову, что у того ещё шанс на исправление есть, а он уже человек «поконченный».
Светлая идея о преемственности следователя Достоевского от мошенника Гоголя не моя, а взята из эссе Виктора Григорьевича, которым он пару лет назад ответил на мой вопрос.
Собственно, то, что бывает сложно уложить в голове тот факт, что образы или идеи психологично-мрачного Фёдора Михайловича могут пересекаться с лёгким и ироничным слогом сотканными историями Николая Васильевича, лишний раз подтверждает, что мы очень зависим от формы, от общей подачи материала и того угла, под которым автор нам предлагает смотреть на повествование. Банальная мысль, что один и тот же немудрёный сюжет со стереотипным образом в изложении двух умелых рассказчиков будут разными рассказами, имеет и обратную сторону — читатель редко об этом задумается.
Это, кстати, свидетельствует о том, что важность связности, логичности и цельности повествования, на отсутствие которых любят ругаться критики и продвинутые зрители и читатели, сильно преувеличена — хорошей истории простят многое. Даже полное сходство с другой историей — лишь бы она была рассказана увлекательно.