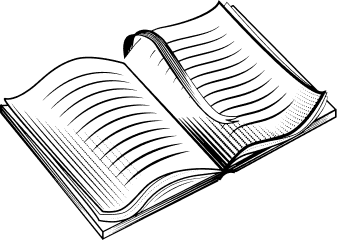Курвины дети
Внутри заведения гул, густое шипение вбегающего в выщербленные кружки пива, тяжелый вкус прокуренного пространства, сутулые похожие завсегдатаи, унылый, но теплый полумрак. За стойкой Женька-бармен – беспрестанно хихикающий и хитрый; рукава белой рубахи закатаны, на бритой башке синяя бейсболка с надписью «Dad, i like beer and rugby», козырьком назад. Дверь все время в движении: периодически впускает вместе с новенькими обрывки свежего воздуха и дождя.
Тишин – он замшелый и недобрый человек. Невесть сколько кукует на проходной целлюлозно-бумажного комбината. Как потерял в юности три пальца (разбирал английский винтовочный патрон, а тот в тисках возьми и шарахни), так и осел унылой оплывшей жабой у ворот – пропускную службу блюдет. Пожилой, потливый, никому ненужный. По выходным прячется от пролетающей по городу жизни в пивбаре «У ворот», цедит дешевую «Балтику», завидует направо и налево, вытирает плоский лоб серым комом большого платка.
Роберт – колченогий, хмурый и подковыристый, бывший валютчик. Обычно «барыжил» возле рынка, скупал-продавал доллары, марки, фунты, не гнушался и колечко у полуголодной бабушки в четверть цены сторговать. На хлеб с маслом хватало, пока не повязали милиционеры – для отчетности, и не улетел на два года – показательно, на Север. Теперь – худой и патлатый - как перевернутая швабра с тряпкой из мешковины, вне семьи, квартиры и будущего валандается у вокзала, нет-нет, да позовут на подхвате побыть в багажном отделении – он и шкандыбает – нескладно, но сноровисто. Деньги тонизируют душу. Субботними и воскресными вечерами, в компании с Тишиным, Роберт надирается тепловатого пива и едко подшучивает над публикой. Злословит, негодник:
- Ты, в углу, сковородное мурло, слышишь, хватит смолить, у меня от дыма вонючесть во всей одежде.
- Заткнись, хайло немытое, - сипит в ответ некий человек с плечами амбала и головой-трапецией с реденькими сивыми волосиками на затылке. – Закройся, а то размажу, обмылок, - присовокупляет, доглатывая выдохшуюся пенистую массу, и слова гудят из литровой кружки, словно из карстовой пещеры – таинственно и басовито.
- Скажи-ка, Тайсон выискался… видал я таких, ага. Ушлепок обдолбанный, болван, скобарь беспорточный, - с достоинством парирует зеленеющий от испуганного хмельного восторга Роберт, зачем-то одергивая бесформенный ворот черного перелатанного свитера. Со скрытой, однако, готовностью вскочить и дать деру.
Плечы амбаловы вслед за башкой-холмиком напрягаются, выпячиваются, и ничем хорошим Роберту предстоящие минуты не грозят.
- Уймись, дурачок пьяный, - вяло командует Тишин. И оба участника перепалки умолкают, как по команде. Ритуал завершен. Зато уже не так скучно.
У кирпичной стены, в закуточке, держась за стакашек дикого пойла цвета прокисшего желудочного сока, затаился Гога. С виноватым видом вечный доедальщик и чмырь выковыривает из недр огромного пористого носа козявки и размазывает их где-то под столешницей. Гога четверть часа умоляюще посматривает на случайного посетителя – по виду менеджера, невесть как очутившегося в этой клоаке. Скорее всего, менеджер попал в передрягу или поссорился с молодой супругой и обыкновенно надирается дешевого коньяка, заедая его умопомрачительно лежалыми хот-догами. После третьей рюмки менеджер, прочувствовав отвратительный в своем роде изыск ядовитых сосисок, походящих на бледные пальцы, брезгливо отставляет серую тарелку в сторону.
- Разрешите? – дрожащий Гога опасливо косится на Женьку-бармена, но тот шушукается с кем-то из гостей.
- Да хоть обожрись, - слова из мятого и печального рта менеджера равнодушны, блеклы и застревают в сизой пустоте. Пустота привычно помалкивает.
Тарелка растворяется в глубине зала, а менеджер, картинно опрокинув последнюю рюмку, махнув рукой в никуда, вышвыривается в вечер, на улицу. Вслед за ним поспешает и амбал.
Откуда-то возникает тщедушный Коростелев. Человек без возраста, лица и денег, вечно пьяненький, веселый и безобидный в этот раз плачет и нудит, старательно кланяясь в разные стороны:
- Ребяты, ну, на опохмел бы, а? Червонца не хватает на чекушку. Старую похоронил вчера, Петровну, то бишь свою. А седня поправиться бы. Плохо мне… Сердце что ли…
Но никто не откликается, и Коростелев принимается философствовать:
- А ведь христиане вы, даже пьющие, даже такие душу содержите… Мы, русские, с рождения больные, с бодуна - смиренные, а умираем наспех. Так воспоможите ближнему, люди… Ну-у-а-а… – Коростелев не успевает договорить, – цепкая рука Женьки тащит его, покорного, к выходу. Тело несчастного почти волочится по обшарпанному линолеуму, тощие ноги в стоптанных полуботинках расслабленно и обреченно дрыгаются на ходу.
Через полчаса в бар вплывает Оля – местная шалава и несчастная женщина. Щеки Оли еще не подернулись характерными паутинками от частых возлияний и разгульства, но несколько одутловаты, налиты нездоровой пухлостью; и при этом милые живые глаза. В них девчачье удивление, небесная чистота, прыгающие смешинки и неожиданное глубокомыслие зрелой женщины - разом; странное дело, что подобные глаза принадлежат такой хозяйке.
На Олином лбу яркая косая ссадина, рукав цветастой блузки надорван – и все понимают: Вован. Вован живет рядом - на улице Чаадаева, недавно уволен из слесарной мастерской – известно за что, и периодически продолжает поддавать. Когда-то Оля и Вован хотели пожениться, но не срослось, к тому же почти одновременно стали спиваться, и женитьба отошла на второй план, а потом вообще на десятый.
- Опять приложился?! – восклицает, багровея, Тишин. Мгновенно преобразившись, он походит на возмущенного римского трибуна, облик его негодующ и праведен.
Гога, оторвавши мокрые губы от нелицеприятной своей жратвы, меленько кивает носатой головой и щурится, поеживаясь.
Оля шмякается за ближайший столик и гаснет. Медленно катится слезка по круглой щеке. Окружающим понятно: получила от Вована – снова сорвал извечную ненависть к прорухе-судьбе на бывшей подружке, да и несостоявшуюся свадьбу, как и жизнь, простить не может.
Роберт, припадая на левую ногу, подходит к понурой жертве неистовых мужских ласк, молча и мрачно приглаживает крашеные блондинистые Олины прядки непропорционально крупными дланями – обеими одновременно.
Повисает бесформенная, щемящая пауза. Бармен за стойкой вздыхает, после чего споро подкатывает к Оле со стопкой водки и бутербродом. Та не заставляет себя уговаривать.
- Теперь пивка сделай… темного, - подытоживает недавняя страдалица.
Неожиданно – словно от увесистого пинка, входная дверь распахивается. Народ вздрагивает. Через порог перепрыгивает, вопя, расхристанный амбал с тугой спортивной сумкой из кожзама:
- Дурачье! Кто со мной бухать? Шара! Я тут с менеджером одним подружился! Хавка, винцо, полный фуршетик! – при этом нижняя челюсть амбала неестественно выдвигается вперед, и он напоминает неандертальца с рисунка из школьного учебника.
Взвигнув, сбивая стулья, летит к амбалу Гога. Роберт, сделав резвый шаг в направлении зазывалы, выражает своим телом полную изготовку к предстоящему участию в будущем событии. Из черного проема-зева открытой настежь двери, будто из небытия выглядывает просветлевшая физиономия Коростелева. Приподнимается, неторопясь, Оля…
Еще минута, и дружной кодлой новоявленная компания устремляется за амбалом, наперебой крича, толкаясь и матерясь.
Бармен, нахохлившись, протирает посуду.
Оставшийся Тишин презрительно плюет в сторону:
- Тьфу, курвины дети...