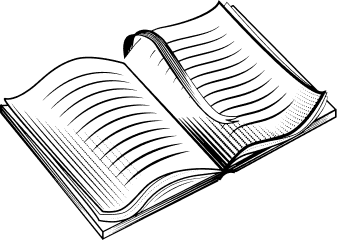MANIFESTARIUM: 0.000.00.000/003: Генри ОЛДИ. ПУТЬ МЕЧА. Кабирский эмират.
Генри Лайон ОЛДИ
– Вот человек стоит на распутье между жизнью и смертью. Как ему себя вести?
– Пресеки свою двойственность и пусть один меч сам стоит спокойно против неба!
Из разговоров Кусуноки Масасигэ с его наставником
Кабирский цикл
ПУТЬ МЕЧА
Глава 15
1
— Есть хочу, — вдруг заявил Кос. — С утра не успел, до полудня с бумагами провозился, теперь вот говорим и говорим… Вам, Блистающим, хорошо, вы от полировки сыты! Ничего, сто лет ждали, пока мы приедем и во всем разберемся — могут еще час подождать!
Уверенность ан-Таньи в том, что весь Мэйлань сотню лет ждал исключительно нас и того, что именно мы разберемся в загадках происходящего — эта уверенность показалась Мне-Чэну напускной, но, как ни странно, сильно приободрила.
«И впрямь хороший человек у Заррахида, — с теплой усмешкой подумал я.
— Хороший человек Кос ан-Танья. Обстоятельный, неунывающий и… и голодный! Надо бы покормить…»
«Я тоже хороший человек, — ответно подумал Чэн. — Меня тоже надо покормить. В конце концов, Кос — Придаток Заррахида, пусть о нем эсток и заботится…»
Напоминание было излишним. Заррахид, безусловно, позаботился, да и сам Кос не отстал — они кликнули слуг и Малых Блистающих, и я понял, что хороший дворецкий — он и в Мэйлане хороший дворецкий. Потому что Малые моего здешнего дома, вне всяких сомнений, больше побаивались Заррахида, чем меня, их законного господина; а слуги-Придатки — Коса.
Не прошло и десяти минут, как выяснилось, что Чэна и Коса (Высшего Чэна и господина ан-Танью, и никак иначе!) ждет стол в трапезной на первом этаже, и сам стол давным-давно накрыт, и не просто накрыт, а прямо-таки ломится от яств кухонь кабирской, мэйланьской, верхневэйской, и какой-то еще…
Чэн пожалел бедный стол, махнул ан-Танье — и они пошли спасать стол от непосильной ноши; а я влез в ножны, прицепившись кольцами к Чэновому поясу, и отправился с Чэном в трапезную.
Лестница.
Коридор.
А вот и трапезная.
Обед прошел в молчании. Люди жевали, я — единственный Блистающий в трапезной, поскольку даже слуги были одной расы с Чэном и Косом, а Блистающие оставались за порогом — лежал, как обычно, у Чэна на коленях, прикрытый краем скатерти, лежал и обдумывал все, услышанное наверху.
Прав был Дзю — уж очень все, произошедшее в Мэйлане за сто лет моего отсутствия, смахивало на заранее продуманные самоубийства. Самоубийства Блистающих. И не просто Блистающих, а старейшин, входящих (входивших!) в тот самый Совет Высших, который изгнал некогда знатную молодежь из Мэйланя и не объяснил причины.
Старейшины, главы родов, и почти точно раз в десять лет… была, была причина нашего изгнания, не могло не быть!..
…В дверях возник слуга-человек и со значением откашлялся.
Кос с неестественно раздутыми щеками, отчего его худое лицо выглядело невообразимо странно, повернулся к дверям.
— У?! — спросил ан-Танья. — У угу-у у-у-у?!
— Осмелюсь доложить: спрашивают Высшего Чэна Анкора.
— У гууу-у? — поднял бровь Кос.
— Старуха одна, — слуга оказался на редкость понятливым. — Назвалась Матушкой Ци.
Правая рука Чэна с момента появления слуги лежала на мне, так что разговор людей я слышал прекрасно — вот только сказанное Косом понимал плохо, в отличие от того же слуги.
Кадык на Косовой шее задвигался вверх-вниз.
— Ага! — радостно и уже членораздельно сообщил ан-Танья. — На ловца и зверь бежит!
— Зверь-то, может, и бежит, — осадил его Чэн-Я. — Не суетись, Кос… бабка, небось, за пергаментом своим пришла. Ну и что ты ей скажешь? В том пергаменте всего-то и примечательного, что запись насчет родича Ляна и Скользящего Перста. С которыми должно непонятно что случиться через девять лет. Интересно все-таки, что ты скажешь старухе по этому поводу?
— А что, этого мало?! — разволновался Кос.
— Не просто мало, а, почитай, вообще ничего. Бабка тебе в глаза рассмеется, и на этом все закончится. Не пытать же нам ее! Тут тоньше надо… чтоб сама проговорилась и не заметила. А дальше — по обстоятельствам.
— Пожалуй, Высший Чэн, вы правы, — после долгого раздумья произнес ан-Танья, выразительно указывая взглядом на слугу, ожидавшего решения. — Эй, ты — поди скажи Матушка Ци, что Высший Чэн ждет ее.
Слуга кивнул и вышел.
2
Матушка Ци со времени нашей последней встречи ничуть не изменилась — что было неудивительно в ее возрасте.
— Приятной вам трапезы, молодые господа, — затараторила она с порога, — приятной трапезы, и доброго здоровья, и радости в ваш дом, и мудрости в вашу голову, а особенно — в вашу драгоценную голову, Высший Чэн, ибо слышала я, что, возможно, вскорости многострадальный Мэйлань обретет в вашем лице достойного правителя!.. ах да, поговаривают, что у вас еще и свадьба скоро — так что мудрости в вашу голову, и счастья с молодой женой, и силы в ваши чресла, и деток побольше, и…
Старуха на этот раз явилась без Чань-бо, так что я полностью перешел на восприятие Чэна и теперь волей-неволей должен был выслушивать нескончаемую болтовню говорливой Матушки Ци.
— Здравствуйте, Матушка, — вставил наконец Чэн-Я, когда старуха на мгновенье умолкла, переводя дух и готовясь к очередному словоизвержению.
— Прошу присаживаться за стол, — поспешил добавить Кос, явно пытаясь заткнуть рот Матушки Ци изрядной порцией еды.
Дважды упрашивать старуху не пришлось. Поминутно рассыпаясь в благодарностях, она тут же уселась напротив Чэна-Меня, пододвинула к себе сразу три чашки гречневой лапши, пиалу с соевым соусом по-вэйски, блюдо с полосками тушеного мяса, четыре блюдца с грибами, маринованной морковью, рисом и бобами — и действительно ненадолго умолкла.
Пока старуха лихо расправлялась с угощением, Кос сбегал наверх и принес утерянный ею свиток.
Чэн-Я даже не сомневался, что ан-Танья успел сделать со свитка копию.
— Вы ведь за этим пришли, Матушка? — спросил Кос, демонстративно выкладывая свиток на стол.
К счастью, вне пределов досягаемости цепких лапок Матушки Ци — а то Я-Чэн почему-то стал опасаться, что старуха сейчас схватит свой пергамент и вылетит в окно.
— Ой, спасибо вам, молодые господа! — немедленно засуетилась старуха, поспешно дожевывая последнюю полоску мяса. — Вот спасибо так спасибо, прямо всем спасибам спасибо, уж я и не знаю, что бы я без вас делала! Видать, обронила во время Беседы, растеряха старая, а сразу и не заметила — уже потом спохватилась, да поздно… я и в плач, я и в вой, а там думаю — господа молодые, глазастые, небось найдут непременно и вернут непременно, — а и не застанут старушку, так с собой заберут, не выкинут, нет, не выбросят зазря, и будет свиточек мой у благородных молодых господ в полной сохранности, аж до самого Мэйланя, и как только глупая Матушка Ци объявится…
Кос ловко пододвинул Матушке второе блюдо с солеными колобками: старуха машинально сунула один из них в рот — и Чэн-Я успел вклиниться в случайно образовавшуюся паузу.
— Вы уж простите нас, любопытных молодых господ, Матушка, но только мы осмелились заглянуть в ваш свиток… думали, разузнаем, где вы проживаете — а там и не удержались! Простите великодушно…
Старуха перестала жевать и настороженно покосилась в нашу сторону.
— Очень, очень интересные записи! — как ни в чем не бывало продолжал Чэн-Я. — Особенно там, где про Антару… я как-то беседовал с Друдлом, и он тогда еще пел мне «Касыду о взятии Кабира» самого аль-Мутанабби — мы потом с Друдлом долго спорили…
«О чем мы могли с Друдлом спорить?!» — воззвал ко мне Чэн.
«Понятия не имею!» — откликнулся я.
Ах, жаль, Обломок наверху остался…
— Спорили… о многом, — уклончиво закончил Чэн-Я.
При упоминании о Друдле взгляд старухи заметно смягчился.
— Да, Друдл… — задумчиво поджала губы она. — В наших кругах его звали Пересмешником. А вы были его другом? Или, осмелюсь спросить — учеником? Простите за дерзость, но иначе вам вряд ли довелось бы слышать от Друдла «Касыду о взятии Кабира» да еще потом спорить с Пересмешником… о многом.
«Сказать ей?» — спросил Чэн.
«Скажи…» — шевельнулся я.
— Вы, наверное, слышали, что я убил в Кабире человека? — напрямик спросил Чэн-Я.
— Ну… — замялась Матушка Ци. — Вроде этого… Только кто ж в такую ложь поверит — чтобы такой молодой да благородный господин…
— Это не ложь. Это правда. Я убил убийцу Друдла. И Пересмешник успел увидеть его смерть.
То, что произошло потом, потрясло Чэна-Меня. Матушка Ци встала из-за стола, подошла к нам и, откинув скатерть, опустилась на колени и поцеловала Чэну руку.
Правую.
Руку аль-Мутанабби.
И приложилась лбом к моему клинку, слегка сдвинув ножны.
После этого старуха вернулась обратно и стала вертеть в пальцах палочки для еды, как если бы ничего не случилось.
— Друдл… хитрый умница, любивший звать себя дураком в присутствии подлинных дураков, — она говорила тихо и внятно. — Помню, мы редко встречались, но часто хвастались в письмах друг перед другом новыми открытиями, а при встречах наскоро переписывали и заучивали найденные тексты — хотя каждый, конечно же, хотел иметь оригинал. Впрочем, меня всегда интересовало начало становления Кабирского эмирата, а Пересмешник больше увлекался эпохой уль-Кайса Старшего. Но…
— Меня тоже больше интересовало начало становления эмирата, — немедленно перебил ее Чэн-Я. — Взятие Кабира, походы аль-Мутанабби… э-э-э… установление границ… Не могли бы вы, Матушка Ци, хоть вкратце…
— Это хорошо, — кивнула старуха. — Обычно в прошлое смотрят старики… но когда молодежь умеет оборачиваться — это говорит о зарождающейся мудрости. Да, у Мэйланя скоро будет достойный правитель. Ну что ж, слушайте…
И мы слушали.
3
Помню: в узких переулках отдавался эхом гулким
Грохот медного тарана войска левого крыла…
Во имя Творца, Единого, Безначального, да пребудет его милость над нами! И пал Кабир белостенный, и воссел на завоеванный престол вождь племен с предгорий Сафед-Кух, неистовый и мятежный Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти.
В ту ночь и был простерт окровавленный ятаган аль-Мутанабби над дымящимся городом, и получил гордый клинок прозвище иль-Рахш, что значит «Крыло бури»…
(«Ты звал руку аль-Мутанабби, старый Фархад, — думал Я-Чэн, — ты звал руку, которая держала тебя в дни твоей молодости, ятаган Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир… ты помнишь теплый, как еще не успевший остыть труп человека, город Кабир? О да, ты его помнишь, старый мудрый ятаган, не любящий украшений…») Но не долго наслаждался Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, первый эмир Кабирский из рода Абу-Салимов, покоем и счастьем, недолго носил венец победы, сменив его снова на походный шлем. И разделил он войско на четыре части, указав каждой свою дорогу. Западные полки, во главе которых стоял седой вождь, лев пустынь Антара Абу-ль-Фаварис, чья кривая альфанга не первое десятилетие вздымалась над полем брани, заслужив прозвание аз-Зами, что значит «Горе сильных» — западные полки двинулись вдоль левого рукава Сузы на Хинское ханство и вольный город Оразм, мечтая дойти до Дубанских равнин.
Южные же полки, состоявшие из неукротимых в бою воинов, рожденных в угрюмых ущельях близ перевалов Рок и ан-Рок, а также отряды горцев Озека, шли под предводительством юного Худайбега Ширвана, чье копье Рудаба, что значит «Сестра тарана», пронзило первого врага, когда яростному Худайбегу не исполнилось и девяти лет. Их целью была богатая Харза, на чьи стены никогда еще не поднимался недруг, и шатры белобаранных кочевников-хургов, неуловимых и вероломных.
Северные полки вел на Кимену и Фес лучший друг и названный брат аль-Мутанабби, вечно смеющийся Утба Абу-Язан. Любил Утба смеяться за пиршественным столом, любил улыбаться в покоях красавиц, но страшен был хохот безумного Утбы в горниле сражений, и алел от крови полумесяц его двуручной секиры ар-Раффаль, «Улыбки вечности».
Во главе же восточных полков, двинувшихся по дороге Барра на древний Мэйлань, стоял сам Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, и воины пели песни эмира-поэта, кидаясь в бой хмельными от ярости и слов аль-Мутанабби.
Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур облаченный,
А со стен потоком черным на бойцов лилась смола…
Через восемь лет многие властители земель и городов, гордые обладатели неисчислимых стад и несметных сокровищ, склонились перед мощью Кабирского меча.
А еще спустя два года владыку Абу-т-Тайиба хотели провозгласить шахом — но он отказался. Тогда его хотели провозгласить шахин-шахом, но он снова отказался. Ибо царским званием был титул шаха, шахин-шахом же звали царя царей, но эмиром в самом первом значении этого слова на языке племен Белых гор Сафед-Кух — эмиром звали военного вождя, полководца, первого среди воинов.
И воинский титул был дороже для аль-Мутанабби диадемы царя царей.
С тех пор мир воцарился на земле от барханов Верхнего Вэя до озер и масличных рощ Кимены, и иные вольные земли добровольно присоединялись к могущественному соседу, а иные заключали с Кабиром союзные договора, налаживая торговые связи — и мирно почивал в ножнах ятаган иль-Рахш, что значит «Крыло бури», забыла вкус крови «Улыбка вечности», двуручная секира ар-Раффаль, успокоилась «Сестра Тарана», копье Рудаба, и альфанга Антары Абу-ль-Фавариса не несла больше горя сильным, за что некогда была прозвана аз-Зами…
4
— …Будь проклят день, когда оружию стали давать имена, — задумчиво пробормотал Чэн-Я.
— Что? — встрепенулась замолчавшая было старуха. — Что вы сказали?
— Да так… у вас — записи, у меня — сны. Каждому — свое. Был, понимаете ли, один такой странный сон…
«Рассказать?» — молча спросил у меня Чэн.
«Расскажи», — согласился я.
И Чэн пересказал Матушке Ци странный сон, что видели мы в доме Коблана в ту роковую ночь.
Старуха довольно долго не открывала рта, что было на нее совсем непохоже.
— Любопытно, — наконец проговорила она. — И даже весьма… Некоторые имена, названные вами, я знаю, но большинство мне совершенно неизвестно. Вы не возражаете, если попозже я запишу это?
С такой Матушкой Ци беседовать было одно удовольствие.
— Не возражаю, — улыбнулся Чэн-Я. — В обмен на ваш дальнейший рассказ.
— О чем же мне продолжить? — охотно откликнулась Матушка Ци.
— О дне. О том дне, который проклинал Антара Абу-ль-Фаварис. О дне, когда оружию стали давать имена. Любому оружию.
Старуха хитро сощурилась.
— Этот день, молодые господа, растянулся на десятилетия. Если не на века. Впрочем, мы никуда не торопимся…
5
…Годы мира не ослабили Кабирский эмират. Хотя, собственно, никто и не осмеливался испытывать прочность его границ.
Всякий приезжий купец или лазутчик (что нередко совмещалось) непременно обращал внимание в первую очередь на то, что практически все жители эмирата и дружественных земель чуть ли не помешаны на умении владеть оружием, отдавая этому большую часть свободного времени. Не только в столице или других крупных городах — повсеместно пять-шесть раз в год обязательно проводились крупные турниры, каждый месяц происходило какое-нибудь воинское празднество, и даже подростки из крестьянских семей ежедневно упражнялись во владении копьем, ножом или боевым серпом под строгим надзором седобородого патриарха.
Надо быть не правителем, а самоубийцей, чтобы рискнуть напасть на обширную и могущественную державу, все население которой — включая стариков, женщин и детей — состоит из профессиональных воинов!
Все видели купцы, все слышали лазутчики, да не все понимали и те, и другие — потому что именно тогда, в последние годы жизни аль-Мутанабби, все чаще в эмирате стали заговаривать об Этике Оружия, создавая по сути новый культ…
(«Очень любопытно! — оживился я, повторяя недавнее восклицание Матушки Ци. — Ведь, согласно нашим преданиям, примерно с этого времени пришла к завершению эпоха Диких Лезвий, и наши предки впервые осознали свою суть, назвавшись Блистающими. Кстати, история самых знатных родов — если отбросить недостоверный вымысел — реально прослеживается тоже с третьего-четвертого десятилетия после взятия Кабира. Вот, значит, как… а она говорит — Этика Оружия! Ладно, слушаем дальше…») …Традиция давать оружию личные имена вошла в полную силу. Всякая семья непременно имела фамильное оружие нескольких видов, передавая его по наследству. Лучшие клинки торжественно вручались первородным детям в день их совершеннолетия — но в случае превосходства младших братьев или сестер родовое оружие получали более умелые, невзирая на старшинство.
Оружие становилось символом семьи, знаком рода, и заслужить право ношения фамильной святыни считалось делом чести…
(«Ну да, это же с ИХ точки зрения! А мы говорили, что Блистающие стали заниматься воспитанием и подготовкой Придатков. Опять же церемония Посвящения…») Поскольку оружие начали в какой-то степени отождествлять с его носителем, чуть ли не приписывая мечу или трезубцу человеческие качества, то в домах появились специальные оружейные углы и даже залы — с отдельными подставками для каждого меча, стойками для копий, алебард или трезубцев; коврами, где развешивались сабли и кинжалы.
Изготовление оружия становится таинством, уход за ним — ритуалом, обращение с ним — искусством. Фамильный меч клали у колыбели и смертного одра, клинком клялись и воспевали его в песнях; оружие можно было хранить только в специально отведенных для этого местах, и помещали его туда с почетом; сломать клинок, пусть даже и чужой, считалось святотатством, лишающим человека права на уважение в обществе.
Оружие не швыряли где попало, передавали из рук в руки с почтительным поклоном; при демонстрации его касались лишь шелковым платком или рисовой бумагой…
Символ действительно становился святыней.
Поединки, связанные с решением каких-то споров и могущие завершиться смертельным исходом, начинают считаться противоречащими канону Этики Оружия. Аристократы брезгливо морщат нос — много ли чести выпустить кишки сопернику?! Тем более, что все в мире двойственно — а ну как не ты ему, а он тебе?..
Богатые люди начинают нанимать себе так называемых Честехранителей — чтоб те сражались за них в случае решения вопросов чести, когда это уже поединок, а не привычная Беседа. Но поскольку Честехранителями становились в основном крупные мастера, то у них вскоре формируется собственный канон отношений, согласно которому считается несмываемым позором убить или ранить собрата по ремеслу (точнее — по искусству!). Куда большей доблестью, куда более весомым добавлением к чести своей и чести нанимателя объявляется умение лишь наметить точный удар, срезать пуговицу с одежды или прядь волос с головы, распороть пояс и тому подобное.
(«Ага, а вот это уже весьма и весьма знакомо!..») Искусство Честехранителей почти мгновенно входит в моду и вызывает зависть знати и простолюдинов, помешанных на владении оружием, и, как результат — воинские искусства становятся неотъемлемой частью воспитания любого человека.
Не воинское ремесло, а ВОИНСКОЕ ИСКУССТВО.
И так проходят годы, десятилетия…
Так проходят века.
А для сохранения поражающей силы удара, для соблюдения традиций прошлого, отдельно продумываются и тщательно разрабатываются состязания в рубке предметов: свернутых циновок, кожаных кукол, лозы, жердей и тому подобного…
(«И правильно! Нечего зря Придатков портить — как сказал бы тот же Гвениль… Во-первых, Придаток тоже человек — чего Гвениль никогда не сказал бы — а во-вторых, учишь его, учишь, душу вкладываешь, лет десять-пятнадцать тратишь (ведь живут Придатки до прискорбного мало, даже самые лучшие) — а тут какой-то неумелый герой рубанул сплеча, и весь труд насмарку! И обидно, и жалко — труда жалко, себя жалко… ну, и Придатка тоже жалко. Правда, Гвениль?») Культ Этики Оружия процветает, оружие сопровождает человека от рождения до самой смерти, о нем слагают песни и стихи, им клянутся, за ним ухаживают, как ни за каким другим имуществом…
(«Слышал бы это Дзю! Уж он бы ей выдал… Имущество! Берегут и ухаживают — это хорошо, клянутся и воспевают — еще лучше, а вот в остальном… сама она — имущество! Впрочем, если бы Придатки услышали мнение Блистающих о себе… Ох, стоим мы друг друга!..») Формируется как бы новый способ общения при помощи оружия — например, язык меча. Поднятый меч в одном случае означает приветствие, в другом — вызов (именно вызов, а не приглашение!) на Беседу; опущенный или вкладываемый в ножны особым образом меч — признание поражения; в чужом доме не принято держать меч при себе, потому что это иногда трактуется как неуважение к хозяевам (исключение делается лишь для родственников и близких друзей, да и то не для всех); меч при разговоре полагается класть с правой стороны от себя и рукоятью к себе, а не вперед; резкое задвигание меча в ножны, когда он звякает о устье ножен, может оскорбить собеседника…
Ну и, конечно же, обряд изготовления нового оружия! Кузнец три дня перед этим соблюдает пост и воздержание, возносит молитвы и облачается в чистые одежды; он возжигает благовония, в кузнице обязательно присутствует «родственное» оружие… все это прекрасно известно сейчас, но складывались эти обычаи именно тогда, в первые полтора-два века после взятия Кабира.
Именно тогда…
6
«…именно тогда, когда наши предки окончательно и бесповоротно осознали себя Блистающими, — думал я. — Все верно. Только мы воспринимаем эти обычаи несколько по-иному: считаем, что это мы приучили Придатков… а они считают наоборот. И, наверное, все мы по-своему правы!..»
— А сколько интереснейших песен посвящено мечу! — возбужденно продолжала Матушка Ци. — И до чего же обидно, что многие из них — в особенности творения великого аль-Мутанабби — занесло песком времени. Вот к примеру…
Она прикрыла глаза, надвинув на них морщинистые черепашьи веки, и начала читать — распевно и в то же время жестко:
Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он — радость для смельчака.
Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.
А если захочешь ты распознать его настоящий цвет,
Волна переливов обманет глаза, будто смеясь в ответ.
Он — тонок и длинен, изящен и строг; он — гордость моих очей,
Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей.
В воде закалялись его края и стали алмазно-тверды,
Но стойкой была середина меча — воздерживалась от воды.
Ремень, что его с той поры носил — истерся, пора чинить,
Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.
Так быстро он рубит, что не запятнать его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.
Мой яростный блеск, когда ты блестишь, это — мои дела,
Мой радостный звон, когда ты звенишь, это — моя хвала.
Живой, я живые…
— …а дальше?! — нетерпеливо спросил Кос.
— Концовка утеряна, — закончила старуха, открывая глаза.
Грустные-грустные.
— Утеряна, говорите? — хитро усмехнулся Чэн-Я. — Плохо искали, наверное!
— Хорошо искали! — отрезала Матушка Ци. — Лучше некуда… Друдл, правда, писал года два назад про какого-то кабирского кузнеца, только при чем тут кузнец?!..
— А в старых сундуках смотрели? — участливо поинтересовался Чэн-Я.
Старуха, похоже, решила, что над ней издеваются.
— Не смотрели, значит, — подытожил Чэн-Я. — Ну что ж… зря. Кос, сбегай в комнату, принеси Кобланово наследство… все не тащи, только панцирь!
Кос выскользнул из трапезной и в скором времени вернулся с панцирем. Ан-Танья остановился перед Матушкой Ци, та с недоумением глянула на Коса, на Чэна, на панцирь… и вдруг сощурилась и перегнулась вперед, вглядываясь в бейт, вычеканенный на зерцале.
— Вы, Высший Чэн, непременно будете правителем, — после долгого молчания бросила она.
— Вы уверены?
— Да. Это воистину царский подарок.
И вполголоса, словно пробуя на вкус каждый звук:
Живой, я живые тела крушу; стальной, ты крушишь металл,
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!
Мы молчали.