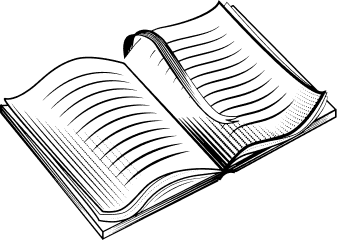Наш овеществленный мир. Лукач
Западный марксизм начинается с «Истории и классового сознания». Дьёрдь Лукач написал эту работу, опубликованную в 1923 году, находясь под глубоким впечатлением от Великой Октябрьской социалистической революции и считая себя коммунистом, верным делу Ленина. Вот что об этом говорит сам Лукач в предисловии, написанном к одному из переизданий в 1967 году.
Цитата: «Только русская революция также и для меня открыла в самой действительности перспективу будущего; это произошло уже со свержением царизма и по-настоящему — только со свержением капитализма. Наше знание фактов и принципов тогда было весьма ограниченным и весьма недостоверным. Несмотря на это, мы видели, что — наконец-то! наконец-то! — для человечества был открыт выход из войны и капитализма» [1].
Лукач рвался в коммунистическое завтра в русле большевизма. Он стремился сделать шаг вперед, а не в сторону. Но по факту зародил неомарксизм (он же западный марксизм).
Лукач рассматривает в «Истории и классовом сознании» вопрос отчуждения (овеществления) человека, тем самым предвосхищая неизвестные на тот момент «Экономическо-философские рукописи» молодого Маркса, которые впервые были опубликованы в 1932 году (Лукач принимал участие в подготовке их публикации). Поднятый Лукачем вопрос отчуждения оказал широкое воздействие на европейскую мысль, помимо порождения неомарксизма. Существует версия, согласно которой «История и классовое сознание» оказала влияние на крупнейшего крайне правого философа ХХ века Мартина Хайдеггера и, в частности, на его наиболее известную работу «Бытие и время» (1927 год). Но сам Хайдеггер напрямую на Лукача не ссылался.
Впоследствии Лукач отрекся от «Истории и классового сознания» и от неомарксизма как такового. Он выбрал марксизм-ленинизм. Напомню, что Лукач последовательно характеризовал себя как человека, преданного «личности Ленина и его делу» [2].
Вот как автор выяснял свои отношения с «Историей и классовым сознанием».
Интервьюер: «Товарищ Лукач, позвольте мне в связи с „Историей и классовым сознанием“ задать один актуальный вопрос. Каково Ваше впечатление от международного влияния этой работы в настоящее время?»
Лукач: «Эта книга имеет некоторую ценность, поскольку в ней поднимаются проблемы, которые марксизм того времени избегал. Общепризнанно, что в ней впервые поднимается проблема отчуждения (Entfremdung) и что в книге предпринимается попытка органического включения ленинской революционной теории в общую концепцию марксизма. Фундаментальной онтологической ошибкой всего этого является то, что я, собственно, признаю только общественное бытие за бытие и что в „Истории и классовом сознании“, поскольку в ней отвергается диалектика в природе, совершенно выпадает та универсальность марксизма, которая из неорганической природы выводит органическую, а из органической природы через работу выводит общество. Здесь еще нужно добавить, что во всей этой общественной и политической позиции уже упомянутое мессианское сектантство играет большую роль».
Интервьюер: «И именно последнему книга обязана своим сегодняшним большим, вновь возникшим влиянием?»
Лукач: «Я думаю, да. Отчасти ее влияние, однако, вызвано тем, что, по сути, едва ли существует какая-либо марксистская философская литература. Несмотря на все содержащиеся в „Истории и классовом сознании“ ошибки, эта книга все еще является куда более умной, чем многое другое, что сейчас понаписано о Марксе с буржуазной стороны».
Интервьюер: «Я заметил, что во Франции после майских событий 1968 года „История и классовое сознание“ была прочитана очень многими студентами. Один лидер студенческого движения в своем заявлении назвал „Историю и классовое сознание“ в числе трех своих любимых книг. „История и классовое сознание“ соответствует психологии, которая выражается в воле к революции при отказе от конкретных политических сил».
Лукач: «Так как в разрешении проблемы классового сознания содержатся также идеалистические элементы и, следовательно, онтологический материализм марксизма встречается здесь меньше, чем в позднейших работах, эта книга, конечно, доступна также и буржуа» [3].
Лукач систематически подвергал свою работу «Историю и классовое сознание» критике. И в советский период, когда критика отчасти могла быть объяснена конъюнктурой, и в постсоветский, когда Лукач был в изгнании. Это последовательная позиция.
Здесь мы можем наблюдать феномен свободы высказывания от его автора. Несмотря на то, что Лукач критиковал свою работу начиная с конца 20-х годов, она запустила неомарксизм в 20-е годы и стала культовой у левых студентов после мая 1968 года, то есть после сорока (!) лет критики со стороны Лукача и написания им ряда других работ, не получивших такого признания. Высказывание фундаментально свободно от своего автора и живет своей жизнью после того, как автор тем или иным способом явил его на свет.
Основа критики Лукачем его же работы — идеалистическо-сектантское мессианство и отсутствие опоры на диалектику природы (Энгельса). Обесценивает ли такая характеристика «Историю и классовое сознание»? Да, если мы стоим на позициях ортодоксального марксизма или марксизма-ленинизма. Если же мы хотим увидеть путь развития марксистской мысли, понять его, то это просто находка. Это буквально открытие неомарксизма.
«История и классовое сознание» представляет собой сборник эссе. Мы рассмотрим наиболее громкое из них — «Овеществление и сознание пролетариата».
Овеществление и сознание пролетариата [3]
Лукач начинает с указания на принципиальную новизну эпохи модерна относительно предшествовавшего ей традиционного общества.
Цитата: «Прежде чем браться за рассмотрение самой проблемы, мы должны отчетливо взять в толк то, что проблема товарного фетишизма — это специфическая проблема нашей эпохи, современного [modern] капитализма. Товарное обращение и соответствующие ему субъективные и объективные товарные отношения, как-известно, существовали уже на весьма примитивных стадиях развития общества. Однако здесь речь пойдет о том, в какой мере товарное обращение и его структурные последствия способны оказать влияние на всю внешнюю, равно как и внутреннюю, жизнь общества. Стало быть, вопрос о том, в какой мере товарное обращение является господствующей формой обмена веществ в обществе, нельзя трактовать — сообразно современным, уже овеществленным под воздействием господствующей товарной формы навыкам мышления — просто как вопрос количественный. Различие между таким обществом, в котором товарная форма выступает как господствующая форма, решающим образом влияющая на все жизненные проявления, и таким, в котором она фигурирует лишь эпизодически, — это различие, напротив, является качественным».
В подтверждение данных тезисов Лукач приводит развернутую цитату из работы Маркса «К критике политической экономии», в которой говорится, что в традиционном обществе процесс обмена товарами первоначально располагался не внутри самого общества, а на его границе. Цитата: «В действительности процесс обмена товаров возникает первоначально не внутри первобытных общин, а там, где они кончаются, на их границах, в тех немногих пунктах, где они соприкасаются с другими общинами. Здесь начинается меновая торговля и отсюда она проникает вовнутрь общины, на которую она действует разлагающим образом».
Жизнь внутри традиционного общества была определена традицией, а не товарным обменом. Но по мере продвижения товарного обмена с границы в центр традиционное общество разлагалось по Марксу.
Далее Лукач последовательно раскрывает современный капитализм как уничтожение традиционного общества через овеществление человека.
Цитата: «Человеку противостоят, как нечто объективное, от него не зависящее, подчиняющее его своей антигуманной закономерности, — его собственная деятельность, его собственный труд. Причем это верно как в объективном, так и в субъективном плане. Верно в объективном плане, поскольку возникает мир готовых [fertig] вещей и вещных отношений (мир товаров и их движения на рынке), чьи законы хотя мало помалу и познаются людьми, но и в этом случае противостоят им как непреодолимые самостийные силы. Их познание, стало быть, может быть использовано индивидом к собственной выгоде, но и тут ему не дано своей деятельностью оказать активное влияние на реальный ход событий. Это верно и в субъективном плане, поскольку при сложившемся товарном хозяйстве человеческая деятельность объективируется по отношению к нему самому, становится товаром; она подчиняется чуждой человеку объективности естественных законов общества, то есть должна совершать свое движение так же независимо от людей, как и любая другая потребительная ценность, ставшая товаровидной вещью [Warending]. Маркс заявляет: „Характерной особенностью капиталистической эпохи является тот факт, что рабочая сила для самого рабочего принимает форму принадлежащего ему товара, а потому его труд принимает форму наемного труда. С другой стороны, лишь начиная с этого момента, товарная форма продуктов труда приобретает всеобщий характер“.
Труд человека, включенный в систему капиталистических отношений, оказывается в «мире готовых вещей и вещных отношений». И подчиняется законам (устройству бытия) этого мира. Процессы капиталистического мира предстают в качестве естественного и фундаментального бытия. Человек может познавать законы этого бытия, обращая это знание себе на пользу, но он не может через свой труд изменить их. То есть он не может изъять свой труд из этого бытия.
В основе объективации (овеществления) труда лежит его формальная эквивалентность труду другого.
Цитата: «Универсальность товарной формы как субъективно, так и объективно обусловливает абстракцию человеческого труда, который опредмечивается в товарах. <…> Объективно, поскольку товарная форма как форма эквивалентности, обмениваемости качественно различных предметов становится возможной лишь в силу того, что они — только в этом отношении, в котором они впервые приобретают свою предметность в качестве товаров — выступают как формально эквивалентные. Причем принцип их формальной эквивалентности может основываться только на их сущности как продуктов абстрактного (то есть формально одинакового) человеческого труда. Субъективно, поскольку данная формальная одинаковость абстрактного человеческого труда не только является общим знаменателем, под который подводятся различные предметы в отношении между товарами, но становится реальным принципом фактического производства товаров».
Эквивалентность товаров обеспечивается через формально эквивалентный человеческий труд, который отрицает индивидуальную уникальность трудящегося, приводя его к общему знаменателю. Чем дальше заходит модернизация, тем более эквивалентным становится человеческий труд, а значит, и индивид как таковой.
Цитата: «Если проследить тот путь, которым идет развитие трудового процесса от ремесла через кооперацию, мануфактуру к машинной индустрии, то становятся очевидными постоянно усугубляющаяся рационализация, все большее исключение качественных, человеческо-индивидуальных свойств рабочего. С одной стороны, это происходит вследствие того, что трудовой процесс во все большей мере разлагается на абстрактно рациональные частичные операции, а в результате разрывается связь рабочего с продуктом как единым целым, и его труд сводится к механически повторяющейся специальной функции. С другой, — вследствие того, что из-за такой рационализации общественно необходимое рабочее время, основа рациональной калькуляции, сперва выступает в качестве эмпирически взятого среднего рабочего времени, а затем, под воздействием все большей механизации и рационализации трудового процесса, — в качестве объективно рассчитываемой трудовой нагрузки, противостоящей рабочему в своей готовой и законченной объективности».
Разделение труда разделяет человека и конечный продукт его труда, который более не является целостным произведением и дробится на множество отдельных элементов, собираемых без участия и помимо воли человека, произведшего отдельный элемент.
Чем дальше заходит рационализация труда, тем дальше заходит его разделение.
Рациональная калькуляция рабочего времени «в качестве объективно рассчитываемой трудовой нагрузки» сталкивает человека с его рабочим местом как с готовым внешним по отношению к нему объектом, имея дело с которым он должен выполнить заранее предписанные функции. Что отчуждает работу человека от него самого. И меняет/формирует его личность.
Цитата: «Эта рациональная механизация проникает даже в „душу“ рабочего: сами его психологические свойства отделяются от его цельной личности, объективируются по отношению к нему, чтобы их можно было ввести в рациональные специальные системы и подвергнуть калькуляции».
Чем более рационально устроен конвейер разделения труда, тем более человеческая личность оказывается производной от него. Унифицированный труд производит унифицированного индивида. Это и есть модернизация.
Цитата: «Просчитываемость [die Berechenbarkeit] с трудового процесса предполагает разрыв с органическо-иррациональным, всегда качественно обусловленным единством самого продукта. Рационализация в смысле все более точного предварительного вычисления тех результатов, которые нужно получить, достижима лишь при самом точном разложении всякого комплекса на его элементы, при изучении специфических частных законов их создания. Она, с одной стороны, должна покончить с органическим созданием целостных продуктов, основанных на традиционной связи эмпирического трудового опыта: рационализация немыслима без специализации. Единый продукт исчезает как предмет трудового процесса. <…> Рационально калькуляционное разложение трудового процесса уничтожает органическую необходимость соотнесенных друг с другом и сведенных в продукте в одно единство частичных операций».
Лукач описывает рационализацию и порождаемую ей специализацию (разделение труда) как «разрыв с органическо-иррациональным, всегда качественно обусловленным единством самого продукта». Как расщепление единого (целостного) как такового. Как расщепление традиционного общества.
Цитата: «Такой разрыв объекта производства означает одновременно разрыв его субъекта. Вследствие рационализации трудового процесса человеческие свойства и особенности рабочего все больше выступают лишь как источники погрешностей по отношению к заранее рассчитанному функционированию этих абстрактных частных законов. Человек ни объективно, ни в своем поведении в трудовом процессе не является его подлинным носителем; как механизированная часть он вводится в механическую систему, которую он преднаходит готовой и функционирующей независимо от него, — систему, законам которой он должен беспрекословно подчиниться». Человеческая личность с ее индивидуальными особенностями оказывается лишь «погрешностью» на конвейере производства эквивалентных индивидов. Основой же является предзаданная внешней по отношению к индивиду системой сумма ролевых моделей, которые он должен реализовывать. Такая «механизация» человека, по Лукачу, достигается путем разрыва единого продукта его труда на множество специализированных всё более узких видов работ. Что приводит к соответствующему разрыву субъекта, производящего эти работы. Разрыв человека как субъекта превращает его труд в «механизированную часть механической системы».
Такое превращение в винтик системы обеспечивает эквивалентность человеческого труда и человека как такового, его приведение к общему знаменателю.
Приведенный к общему знаменателю человек оказывается в качественном новом времени (модерн — новое время).
Цитата: «Эта беспрекословность усугубляется еще и тем, что вместе с все большей рационализацией и механизацией трудового процесса деятельность рабочего все больше теряет свой деятельностный характер и превращается в контемплятивную [созерцательную, прим. АМ] установку [kontemplative Haltung]. Контемплятивное отношение к механически закономерному процессу, который разыгрывается независимо от сознания, и на который человеческая деятельность не оказывает никакого влияния, который, стало быть, проявляется как готовая замкнутая система, — эта позиция изменяет также основные категории непосредственного отношения людей к миру: данный процесс подводит под общий знаменатель пространство и время, нивелирует время, уравнивая его с пространством. Маркс заявляет: вследствие „подчинения человека машине“ создается ситуация, при которой „труд оттесняет человеческую личность“, при которой „часовой маятник сделался точной мерой относительной деятельности двух рабочих, точно так же как он служит мерой скорости двух автомобилей. Поэтому не следует говорить, что рабочий час одного человека стоит рабочего часа другого, но вернее будет сказать, что человек в течение одного часа стоит другого человека в течение тоже одного часа. Время — все, человек — ничто; он, самое большее, только воплощение времени. Теперь уже нет более речи о качестве. Только одно количество решает все: час за час, день за день“. Тем самым время утрачивает свой качественный, изменчивый, текучий характер: оно застывает, становится континуумом, точно ограниченным и заполненным количественно (овеществленными, механически измеримыми „вещами“ объективированными, неукоснительно отделенными от совокупной личности человека „результатами“ труда рабочего): время становится пространством. В таком абстрактном, поддающемся точному измерению, ставшем физическим пространством времени как в окружающем мире [Umwelt], во времени, которое является одновременно предпосылкой и следствием научно-механически разложенного и специализированного создания объекта труда, субъекты тоже должны быть рационально разложены в соответствии с этим положением дел. С одной стороны, это происходит постольку, поскольку механизированный частичный труд субъектов, объективация их рабочей силы по отношению к их совокупной личности [Gesamtpersoenlichkeit], которая вызывается уже продажей их рабочей силы как товара, делается устойчивой и непреодолимой повседневной действительностью. Причем личность здесь также становится бессильным зрителем того, что происходит с ее собственным наличным существованием [Dasein] как изолированной частичкой, втиснутой в чуждую ей систему. С другой стороны, механическое разложение производственного процесса разрывает и те узы, которые при „органическом“ производстве связывали отдельных субъектов труда со всей общностью. Механизация производства и в этом плане делает из них изолированные абстрактные атомы, которые уже не имеют между собой того непосредственно-органического контакта, который устанавливали результаты их труда. Атомы, чья взаимосвязь, напротив, во все большей мере опосредствуется исключительно абстрактными механическими закономерностями, в которые они втиснуты» он служит мерой скорости двух автомобилей. Поэтому не следует говорить, что рабочий час одного человека стоит рабочего часа другого, но вернее будет сказать, что человек в течение одного часа стоит другого человека в течение тоже одного часа. Время — все, человек — ничто; он, самое большее, только воплощение времени. Теперь уже нет более речи о качестве. Только одно количество решает все: час за час, день за день». Тем самым время утрачивает свой качественный, изменчивый, текучий характер: оно застывает, становится континуумом, точно ограниченным и заполненным количественно (овеществленными, механически измеримыми «вещами» объективированными, неукоснительно отделенными от совокупной личности человека «результатами» труда рабочего): время становится пространством. В таком абстрактном, поддающемся точному измерению, ставшем физическим пространством времени как в окружающем мире [Umwelt], во времени, которое является одновременно предпосылкой и следствием научно-механически разложенного и специализированного создания объекта труда, субъекты тоже должны быть рационально разложены в соответствии с этим положением дел. С одной стороны, это происходит постольку, поскольку механизированный частичный труд субъектов, объективация их рабочей силы по отношению к их совокупной личности [Gesamtpersoenlichkeit], которая вызывается уже продажей их рабочей силы как товара, делается устойчивой и непреодолимой повседневной действительностью. Причем личность здесь также становится бессильным зрителем того, что происходит с ее собственным наличным существованием [Dasein] как изолированной частичкой, втиснутой в чуждую ей систему. С другой стороны, механическое разложение производственного процесса разрывает и те узы, которые при «органическом» производстве связывали отдельных субъектов труда со всей общностью. Механизация производства и в этом плане делает из них изолированные абстрактные атомы, которые уже не имеют между собой того непосредственно-органического контакта, который устанавливали результаты их труда. Атомы, чья взаимосвязь, напротив, во все большей мере опосредствуется исключительно абстрактными механическими закономерностями, в которые они втиснуты».
Это блестящее описание модернизации, ведущей к разрыву всех органических (традиционных) связей и превращающей человека в изолированного индивида, связанного с другими через «абстрактные механические закономерности, в которые они [индивиды] втиснуты». Что, по Лукачу, достигается путем разрыва объекта и субъекта, т. е. путем тотальной детерминированности субъекта механической системой, в которую он включен. Таким образом, человек как личность оказывается способным лишь созерцать процессы, в которые он включен, без возможности деятельно повлиять на них.
Если человек через труд детерминирован механической системой, то и всё его бытие становится механистическим. Внешняя по отношению к человеку механистическая система «нивелирует время, уравнивая его с пространством». Время оказывается включено в систему и тем самым «точно ограниченным и заполненным количественно (овеществленным)». Если овеществляется человек, то овеществляется всё его бытие.
Лукач вновь подчеркивает, что всё вышесказанное является принципиальной новизной эпохи модерна.
Цитата: «Такое воздействие внутренней организационной формы индустриального предприятия было бы невозможным — в том числе в рамках предприятия, если бы в ней не манифестировалась в концентрированном виде структура всего капиталистического общества. Ибо достигающее крайних пределов угнетение, издевающаяся над всяким человеческим достоинством эксплуатация были известны и докапиталистическим обществам: последние знал даже массовые предприятия с механически однородным трудом, — такие, как, например, прокладка каналов в Египте и Передней Азии, рудники в Риме и т. д. Но в них массовый труд, с одной стороны, нигде не способен был стать рационально механизированным трудом; с другой, эти массовые предприятия оставались изолированными явлениями внутри общностей, которые имели натуральное хозяйство и жили соответствующим образом. Поэтому эксплуатируемые подобным образом рабы стояли вне заслуживающего внимания „человеческого“ общества, а их судьба не воспринималась их современниками, даже величайшими и благороднейшими мыслителями, как человеческая судьба, как судьба человека. С приобретением категорией товара универсальности это отношение претерпевает радикальное и качественное изменение. Судьба рабочего становится общей судьбой всего общества».
Овеществление становится судьбой человечества в эпоху модерна. Что наиболее полно, по Лукачу, проявляется в том, что судьба рабочего становится общей судьбой всего общества. Рабочий выступает передовиком в овеществлении собственного бытия, но это не его изъян, это авангардное проявление судьбы всего человечества.
Цитата: «Атомизация индивида, стало быть, есть рефлекс, отражение в сознании того, что „естественные законы“ капиталистического производства охватили все жизненные проявления общества, что — в первый раз в истории — общество в целом, по меньшей мере, в тенденции, подпадает под единый экономический процесс, что судьба всех членов общества движется согласно единым законам. (В то время как органические единства докапиталистических обществах осуществляли свой обмен веществ в значительной степени независимо друг от друга.) Но эта видимость является необходимой в качестве видимости; это значит, что непосредственное, практическое, взаимодействие индивида с равно как обществом, и умственное, непосредственное производство и воспроизводство жизни, — при котором для индивида являются чем-то готовым и преднайденным, чем-то непреложно данным, товарная структура всех „вещей“ и „естественная закономерность“ их отношений, — могут протекать только в этой форме рациональных и изолированных актов обмена между изолированными товаровладельцами. Как уже подчеркивалось выше, рабочий должен представлять самого себя в качестве „владельца“ собственной рабочей силы как товара. Специфичность его позиции заключается в том, что рабочая сила является его единственной собственностью. Типичным в его судьбе для структуры всего общества является то, что это самообъективирование, это превращение-в-товар некоторой функции человека с величайшей точностью раскрывает обесчеловеченный и обесчеловечивающий характер товарного отношения».
Марксизм был порожден эпохой модерна. Но строится марксизм не через детальное описание светлого будущего (коммунизма), а через критику буржуазного капитализма и шире — через критику модерна в целом. Марксизм признает буржуазную фазу как необходимую, как часть исторического прогресса, но в то же время подчеркивается ее «обесчеловеченный и обесчеловечивающий характер» и стремится ее снять.
По Лукачу, жизнь индивида в состоявшемся буржуазном обществе «являются чем-то готовым и преднайденным, чем-то непреложно данным». То есть в конечном итоге овеществлению подлежит не только наемный труд пролетария, а вся жизнь в буржуазном обществе в принципе. Фундаментальный характер овеществления обусловлен тем, что модернистское общество «перепрограммирует» под себя и объект, и субъект. То есть отчуждает от своей сущности не только человека, но и вещь. Всему придавая свою интерпретацию.
Цитата: «Данное рациональное объективирование скрывает, прежде всего, непосредственный — качественный и материальный — вещный характер всех вещей. Когда все без исключения потребительные стоимости выступают в качестве товаров, они приобретают новую объективность, новую вещественность, которой они не имели во время простого спорадического обмена и в которой уничтожается, исчезает их изначальная, подлинная вещественность. Маркс заявляет: „Частная собственность отчуждает индивидуальность не только людей, но и вещей. Земля не имеет ничего общего с земельной рентой, машина — ничего общего с прибылью. Для землевладельца земля имеет значение только земельной ренты, он сдает в аренду свои участки и получает арендную плату; это свойство земля может потерять, не потеряв ни одного из внутренне присущих ей свойств, не лишившись, например, какой-либо доли своего плодородия; мера и даже самое существование этого свойства зависит от общественных отношений, которые создаются и уничтожаются без содействия землевладельцев. Так же обстоит дело и с машиной“.
Следовательно, если даже отдельный предмет, которому непосредственно противостоит человек как производитель или потребитель, претерпевает искажение своей предметности из-за своего товарного характера, то данный процесс, очевидно, должен усиливаться в тем большей мере, чем более опосредствованными являются те отношения, которые устанавливает в своей общественной деятельности человек к предметам как объектам жизненного процесса».
Модерн посредством рационализации объективирует всё бытие. По мере модернизации «данный процесс, очевидно, должен усиливаться».
Цитата: «Для овеществленного сознания они [формы капитала, прим. АМ] могут стать истинными репрезентациями его общественной жизни. Товарный характер товара, абстрактно-количественная форма калькулируемости проявляются здесь в своей полной чистоте: эта форма, таким образом, становится для овеществленного сознания формой проявления его подлинной непосредственности, за пределы которой оно, — будучи овеществленным сознанием, — и не помышляет выходить. Напротив, оно стремится закрепить ее и увековечить путем „научного углубления“ в схватываемые здесь закономерности. Подобно тому, как экономически капиталистическая система беспрестанно производит и воспроизводит себя на все более высокой ступени, точно так же в ходе развития капитализма структура овеществления погружается в сознание людей все более-глубоко, судьбоносно и конститутивно».
Овеществленное сознание человека воспринимает буржуазный уклад как «истинною репрезентацию» (истинное проявление) нашего бытия. Человек, оказавшийся в капиталистической системе отношений, буквально тонет в овещественном мире — в буржуазной энтропии. Цитирую еще раз: «В ходе развития капитализма структура овеществления погружается в сознание людей всё болееглубоко, судьбоносно и конститутивно».
Лукач подчеркивает, что «научный подход» к познанию буржуазного бытия лишь усугубляет погружение в него. Овеществленное сознание «стремится закрепить и увековечить» свое буржуазное бытие «путем „научного углубления“ в схватываемые здесь закономерности».
Таким образом, наука эпохи Просвещения (а это наука как таковая) представляется по Лукачу важнейшим инструментом всё более глубокого и судьбоносного овеществления человека.
Лукач, как мы уже могли убедиться, приводит развернутые цитаты из Маркса в подкрепление своих тезисов. Лукач стремится максимально опереться на Маркса и раскрыть канонический марксизм. Чтобы не перегружать и без того большие цитаты и избежать путаницы, я отдельно приведу развернутую цитату Маркса из работы Лукача.
Цитата: «Маркс часто изображает это потенцирование овеществления самым проникновенным образом: „Поэтому в капитале, приносящем проценты, этот автоматический фетиш, самовозрастающая стоимость, деньги, высиживающие деньги, выступает перед нами в чистом, окончательно сложившемся виде, и в этой форме он уже не имеет на себе никаких следов своего происхождения. Общественное отношение получило законченный вид, как отношение некоей вещи, денег, к самой себе. Вместо действительного превращения денег в капитал здесь имеется лишь бессодержательная форма этого превращения <… > Создавать стоимость, приносить проценты является их свойством совершенно так же, как свойством грушевого дерева — приносить груши. Как такую приносящую проценты вещь, кредитор и продает свои деньги. Но этого мало. Как мы видели, даже действительно функционирующий капитал представляется таким образом, как будто он приносит процент не как функционирующий капитал, а как капитал сам по себе, как денежный капитал. Переворачивается и следующее отношение: процент, являющийся не чем иным, как лишь частью прибыли, т. е. прибавочной стоимости, которую функционирующий капиталист выжимает из рабочего, представляется теперь, наоборот, как собственный продукт капитала, как нечто первоначальное, а прибыль, превратившаяся теперь в форму предпринимательского дохода, — просто как всего лишь добавок, придаток, присоединяющийся в процессе воспроизводства. Здесь фетишистская форма капитала и представление о капитале-фетише получают свое завершение. В Д-Д1 мы имеем иррациональную форму капитала, высшую степень искажения и овеществления производственных отношений; форму капитала, приносящего проценты, простую форму капитала, в которой он является предпосылкой своего собственного процесса воспроизводства; перед нами способность денег, соответственно товара, увеличивать свою собственную стоимость независимо от воспроизводства, т. е. перед нами мистификация капитала в самой яркой форме. Для вульгарной политической экономии, стремящейся представить капитал самостоятельным источником стоимости, созидания стоимости, форма эта является, конечно, настоящей находкой, такой формой, в которой уже невозможно узнать источник прибыли и в которой результат капиталистического процесса производства, отделенный от самого процесса, приобретает некое самостоятельное бытие“.
Лукач рассматривает вопрос отчуждения (овеществления) человека при капитализме и тем самым предвосхищает «Экономическо-философские рукописи» молодого Маркса, которые на момент написания (1922 год) и публикации (1923 год) работы Лукача не были известны. В марксистском ключе Лукач опирается и на немецкого социолога Макса Вебера (одного из первых своих учителей).
Цитата: «Вебер также — с полным правом — присовокупляет к этому описание причин и социальной сущности феномена овеществления: „Современное капиталистическое предприятие внутренне опирается прежде всего на калькуляцию. Оно нуждается для своего существования в юстиции и администрации [Verwaltung], чье функционирование, по крайней мере, в принципе, может стать рационально калькулируемым на основе прочных генеральных норм, подобно тому как предварительно калькулируется результат работы какой-либо, машины. Оно так же мало может <…> уживаться с судебным разбирательством, где судья в данном конкретном случае руководствуется своим чувством справедливости или использует другие иррациональные правоприменительные средства и принципы, <…> как и с патриархальным административным управлением, действующим по своему свободному произволу и милости, исходя в остальном из нерушимо священной, но иррациональной традиции <…> То, что специфично для современного капитализма в противоположность всем древним формам капиталистической наживы: строго рациональная организация труда на базе рациональной техники, — такая организация нигде не возникала в рамках подобных иррационально построенных государственных структур и никогда не могла там возникнуть. Ибо современные формы предприятия с их постоянным капиталом и точной калькуляцией чересчур чувствительны к иррациональностям права и административного управления, чтобы это стало возможным. Такие формы могли возникнуть только там, <…> где судья, как в бюрократическом государстве с его рациональными законами, в большей или меньшей степени является параграфоидальным автоматом, в который сверху вбрасываются акты вместе с издержками и сборами, а снизу выходит приговор вместе с более или менее надежной аргументацией, то есть где функционирование этого судебного автомата при всем прочем является, в общем и целом, калькулируемым“.
Лукач, опираясь на Маркса и Вебера, подчеркивает, что именно при капитализме превращение человека в социальный автомат было доведено до логического конца. Частью этого автомата стала юстиция, лишенная любых представлений о справедливости и выполняющая функцию автоматической отработки спущенных в нее правил, основанных на текущей кулькулируемости общества. То есть правосудие, по Лукачу, становится частью системы овеществления и имеет дело не с людскими судьбами, а с вещами, распоряжаться которыми надлежит по инструкции.
Если мы применим данные тезисы Лукача к прецедентам выдачи из России ополченцев на Украину, которые имели место до СВО, то увидим в решениях суда, в действиях правоохранительной системы в целом тот самый «параграфоидальный автомат», который в принципе не про справедливость, а про отработку инструкций в овеществленном мире.
Далее Лукач соотносит систему права в традиционном обществе и в модернистском. И делает следующий вывод.
Цитата: «Здесь в иной области повторяется противоположность между традиционалистско-эмпирическим ремеслом и научно-рациональной фабрикой: непрерывно изменяющаяся техника современного производства — на каждой отдельно взятой ступени ее развития — противостоит отдельному производителю как косная и готовая система, в то время как относительно стабильное, производство объективно традиционное, сохраняет ремесленническое текучий, постоянно обновляющийся, продуцируемый производителем характер. Тем самым и тут с полной очевидностью проявляется созерцательный характер поведения капиталистического субъекта. Ибо, по сути, рациональная калькуляция базируется в конечном счете на том, что познается и просчитывается независимый от индивидуального „произвола“, непреложно-закономерный ход определенных процессов. То есть на том, что поведение человека исчерпывается правильным просчетом шансов такого течения событий („законы“ которого он находит в „готовом“ виде), умелым обходом „случайных“ помех путем применения мер предосторожности, защиты и т. д. (которые также базируются на знании и применении подобных „законов“)».
Субъект в капиталистическом обществе приобретает «созерцательный» характер, оказывается неспособным повлиять на внешние по отношению к нему «законы [модернистского] бытия», представляющиеся ему в «готовом» виде. Это умаление субъекта, его превращение в винтик внешней по отношению к нему системы. В вещь.
Цитата: «Какая разница, что рабочий подобным образом должен относиться к отдельной машине, предприниматель — к данному типу машинного производства, инженер — к уровню развития науки, рентабельности ее технического приложения, — все равно это лишь чисто количественная градация, которая непосредственно не знаменует собой никакого качественного различия в структуре их сознания».
Лукач подчеркивает, что овеществляется сознание всего модернистского общества. Как пролетариата, так и собственников капитала. Всех.
Цитата: «Проблема современной бюрократии становится совершенно понятной только в данной взаимосвязи. Бюрократия представляет собой сходное приспособление образа жизни и труда, а, соответственно, и сознания, к общим социально-экономическим предпосылкам капиталистической экономики, которое мы установили применительно к рабочим на отдельном предприятии. Формальная рационализация права, государства, управления и т. д. объективно вещественно означает сходное разложение всех общественных функций на их элементы, сходный поиск рациональных и формальных законов этих неукоснительно отделенных друг от друга частных систем, а, сообразно с этим в субъективном плане, сходные следствия в сознании отъединения труда от индивидуальных способностей и потребностей трудящегося, сходное рационально-бесчеловечное разделение труда, которое мы на машинно-техническом уровне обнаружили в предприятии».
Бюрократия также лишь часть «машины модерна». Марксизм в принципе лишен пафоса «вселенского заговора» и отрицает его как основу исторического процесса. Лукач же показывает, что власть как таковая лишь производная от той программы, которую она обслуживает. Не власть имущие порождает модернизацию, а модернизация порождает определенную власть.
Цитата: «При этом речь идет не только о совершенно механизированном, „бездуховном“ способе труда низшей бюрократии, который чрезвычайно напоминает простое обслуживание машин и даже зачастую превосходит его своей безысходностью и однообразием. Но, с одной стороны, речь идет о все более формальном, рациональном подходе ко всем вопросам с объективной точки зрения, о всевозрастающем отрешении от качественно-материальной сущности „вещей“, на которые распространяется бюрократический подход. С другой стороны, — о еще более монструозном усугублении односторонней специализации в рамках разделения труда, насилующей человеческую сущность человека. Справедливость замечания Маркса о фабричном труде, при котором разделяется сам индивид, каковой превращается в автоматический приводной механизм частичного труда, доводится до ненормальности, проявляется здесь тем более резко, чем более высоких, развитых, „духовных“ достижений [Leistungen] требует от работника данное разделение труда. И здесь повторяется отделение рабочей силы от личности рабочего, ее превращение в вещь, в предмет, который он продает на рынке. Повторяется с тем лишь отличием, что тут машинная механизация не угнетает разом все духовные способности, а одна способность (или комплекс способностей) отрешается от целостной личности, объективируется по отношении к ней, становится вещью, товаром».
Никто, включая творцов, не свободен от овеществления в мире овеществления. Так как «сам фундаментальный феномен остается одним и тем же».
Цитата: «Только капитализм с его единой для всего общества экономической структурой породил — формально — единую для всех его членов вместе взятых структуру сознания. И она проявляет себя как раз в том, что характерные для наемного труда проблемы сознания повторяются в господствующем классе — в более тонком, одухотворенном, но именно поэтому в более усугубленном виде».
Начав с того, что овеществление сознания пролетариата проявляется наиболее явственно, Лукач подчеркивает, что и сознание господствующего класса также овеществляется, причем «в более усугубленном виде».
Цитата: «Наиболее гротескное выражение данная структура получает в сфере журналистики, где субъективность как таковая, знание, темперамент, формулировочный дар становятся абстрактным, самопроизвольно приводящимся в действие механизмом, не зависящим ни от личности их „владельца“, ни от материально-конкретной сущности рассматриваемых тем. „Бессовестность“ журналистов, проституирование ими своих переживаний и убеждений может быть понята лишь как некая кульминация капиталистического овеществления».
Мне трудно не увидеть здесь отголосок будущей работы Бодрийяра «В тени молчаливого большинства, или конец социального». Проституирование журналистов по Лукачу является не порождением их личных негативных качеств, а кульминацией капиталистического овеществления человека. То есть проституирование предписано журналисту зрелым капиталистическим обществом. Отсюда один шаг к признанию того, что масса конституирует (проституирует) массмедиа, а не массмедиа — массы.
Ключ к могуществу постмодерна. Бодрийяр https://sponsr.ru/friend_ru/81032/Kluch_kmogushchestvu_postmoderna_Bodriiyar/
Цитата: «Превращение отношения между товарами в вещь с „призрачной предметностью“, таким образом, не может остановиться на том, что все предметы, удовлетворяющие потребности, становятся товарами. Оно запечатлевает свою структуру на всем сознании человека: его свойства и способности уже больше не сливаются в органическом единстве личности, а выступают как „вещи“, которыми он „владеет“ и которые он „отчуждает“ точно так же, как разные предметы внешнего мира. И не существует, естественно, никакой формы отношений между людьми, ни одной возможности у человека проявить свои физические и психические „свойства“, которая бы не подпадала все больше под власть этой формы предметности».
Человек модерна, по Лукачу, представляется как сумма вещей, лишенных органического единства. Каждое его действие, мысль, психологическое свойство является объективированным внешней системой предметом. Человек не принадлежит, он предстает как конструкт, сооруженный чужой для него системой.
Речь не только о социологической детерминированности индивида. Лукач подчеркивает, что полного механицизма, превращения в винтик — полного овеществления — сознание и бытие человека достигает именно в зрелом модерне.
Ключевым инструментом овеществления является рационализация.
Цитата: «Эта мнимо безостаточная, доходящая до самых глубин физического и психического бытия человека рационализация, однако, наталкивается на ограничения, налагаемые формальным характером свойственной ей рациональности. Это значит, что хотя рационализирование изолированных элементов жизни, проистекающие отсюда — формальные — закономерности непосредственно и на поверхностный взгляд и вписываются в единую систему всеобщих „законов“, однако пренебрежение конкретной материей законов, на чем основывается сама их закономерность, проявляется в виде фактической несогласованности законов в этой системе, в случайной соотнесенности частей такой системы друг с другом, в относительно большой автономии этих частей системы по отношению друг к другу. Наиболее резко подобная несогласованность выражается в периоды кризисов, существо которых, с представляемой здесь точки зрения, состоит именно в том, что разрывается непосредственная континуальность перехода от данной части системы к другой ее части, что их независимость друг от друга, их случайная соотнесенность между собой внезапно становятся достоянием сознания всех людей. Поэтому Энгельс был вправе назвать „естественные законы“ капиталистической экономики законами случайностей».
Рационализация бесконечно дробит человеческое бытие, изучая (рационализируя) и тем самым дробя каждую его часть на всё более узкие частицы. Этот путь ведет к потере восприятия целостности. Рационализация постоянно удаляется от понимания и схватывания целостной картины, отдавая складывание познаваемых ей законов изолированных частиц на откуп случаю.
Цитата: «Все строение капиталистического производства покоится на таком взаимодействии строго закономерной необходимости во всех отдельных явлениях и относительной иррациональности совокупного процесса».
Всё большая рационализация отдельных элементов, по Лукачу, в сумме представляет собой всё большую иррациональность совокупного процесса — всё больший хаос.
Цитата: «Вследствие специализации результативной деятельности [Leistung] утрачивается всякая картина целого. И поскольку, тем не менее, потребность в постижении (по меньшей мере, познавательном) целого отмереть не может, возникает впечатление и раздается упрек, что действующая таким образом наука, которая также застревает в этой непосредственности, разрывает тотальность [Totalitaet] действительности на куски, в силу своей специализации теряет целое из поля зрения. <…> „разумный“ способ действий современной науки <…> чем более развитой становилась современная наука, чем большей методологической ясности она достигала относительно себя самой, тем более решительно отворачивалась она от онтологических проблем своей сферы, тем более решительно она должна была отграничивать область научно постижимого для нее. И чем более развитой, чем более научной она становилась, тем в большей степени она превращалась в формально замкнутую систему специальных частных законов, для которой являются методологически и принципиально непостижимыми находящийся вне ее собственной сферы мир и вместе с ним, даже в первую очередь, данная ей для познания материя, ее собственный, конкретный субстрат действительности».
Лукач вновь подчеркивает, что наука идет путем дробления и тем самым всё «более решительно отворачивалась она от онтологических проблем своей сферы». Это тотальная критика науки модерна как таковой, ее фундаментальных оснований. По Лукачу, наука идет путем истребления целостности и человека, всё более и более погружаясь в хаос.
Цитата: «Когда для философии формалистические понятийные структуры частных наук становятся, таким образом, неизменным данным субстратом, своей конечной стадии достигает безнадежное удаление от уразумения овеществления, которое лежит в основе указанного формализма. Теперь овеществленный мир — с точки зрения философии; во вторую очередь, в „критическом“ освещении — окончательно выступает как единственно возможный, единственно схватываемый в понятиях, постижимый мир, который дан нам, людям. По сути, в этой ситуации совершенно ничего не может изменить ни то, происходит это под знаком прославления, резиньяции [полной покорности, прим. АМ] или отчаяния, ни то, изыскивается ли возможность найти дорогу к „жизни“ через иррационально-мистическое переживание».
По Лукачу, наука — инструмент овеществления человека. Философия — инструмент овеществления человека. А обращение к премодерну («иррационально-мистическое переживание») — тупик. Мы можем кричать от отчаянья, прославлять или тихо покоряться овеществлению, это не имеет значения, мы так ничего не изменим, пишет Лукач. Овеществленный мир окончательно выступает как единственно возможный, единственно схватываемый в понятиях, постижимый мир, который дан нам, людям.
Данная работа Лукача — убедительная критика модерна с позиций марксизма. На мой взгляд, именно модерна, а не только капитализма. Лукач, безусловно, не распространял свою критику на СССР, видя в 1923 году в нем зарю коммунистического завтра. Но если мы сейчас посмотрим на советский уклад через призму «Овеществления и сознания пролетариата», то увидим там всю ту же заданность советского человека, который «как механизированная часть вводится в механическую систему, которую он преднаходит готовой и функционирующей независимо от него, — систему, законам которой он должен беспрекословно подчиниться».
Важно, что Лукач пишет свою работу на марксистском языке и с развернутыми отсылками к Марксу, будучи верным ленинцем и сторонником СССР. Это снимает с него «идеологические подозрения». Впрочем, человек, предъявляющий такие подозрения как решающий аргумент, вряд ли прочтет Лукача сегодня.
Из рассмотренных тезисов Лукача неумолимо вытекает один вывод, который он делает с ортодоксальных коммунистических позиций — модерн должен быть преодолен во всей своей полноте. Продолжение следует.
[1] Георг Лукач, «История и классовое сознание», издательство «Логос-Альтера», 2003 год, Москва.
[2] Дьердь Лукач, «Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей», издательство «Международные отношения», 1990 год, Москва.
[3] «Дьердь Лукач: Прожитые мысли. Автобиография в диалоге», издательство «Владимир Даль», 2019 год, Санкт-Петербург.