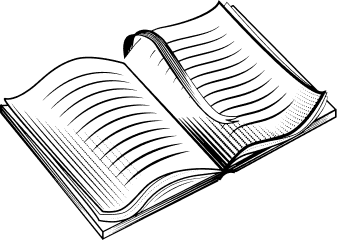Скандинавские наёмники на Руси

«Простая подписка»
Вопреки распространенному заблуждению, собственно в княжеских дружинах «варяги» были редкими птицами.
Русь, ruotsi, roþs — что общего?

Все попытки отыскать скандинавские корни «руси», опираясь на летописный текст, обречены на неудачу. Мы видели невозможность этнической идентификации «руси» посредством термина «варяги»*. По-сути, единственное четкое этническое определение «руси» содержит выражение: «а словенеск язык и рускыи один…». Таково мнение на этот счет «первого русского норманиста».
* Помимо прочего «историческая ономастика безусловно свидетельствует о том, что русь — более древнее слово, чем варяги…» [Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков. Смоленск, М., 1995. С. 78]. Научные последствия одного только этого наблюдения четко сформулированы еще Д. И. Иловайским: «Как только отделим Русь от варягов, то вся система норманистов превращается в прах» [Иловайский Д.И. Вторая дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гуннскому. М., 1902].
Вместе с тем эта «русь» — явно чужеродный элемент в восточнославянской среде. Летописец никогда не смешивает ее с восточнославянскими племенами. В самом своем словообразовании термин «русь» обнаруживает сходство с некоторыми другими неславянскими этнонимами — сумь, пермь, чудь и т. п.
В связи с этим не прекращаются покушения привить «русский» росток к скалистым уступам скандинавских фьордов. Ведь, как говаривал Ключевский, в историческом вопросе чем меньше данных, тем разнообразнее возможные решения и тем легче они даются.
В XIX в. одна за другой были высказаны и отброшены как несостоятельные несколько гипотез: происхождение термина «русь» от исторических областей и населенных пунктов — Рослаген, Рустринген и др. Последнее и наиболее весомое слово норманизма по этой проблеме было сказано в 1982 г., в коллективном труде ученых СССР, ГДР, Польши, Дании, Швеции и Финляндии.
От лица советских историков там было заявлено следующее: «Советские лингвисты за последние двадцать лет детально исследовали происхождение этого северного названия… Выводы их едины: название „русь“ возникло в Новгородской земле. Оно зафиксировано здесь богатой топонимикой, отсутствующей на юге: Руса, Порусье, Околорусье в южном Приильменье, Руса на Волхове, Русыня на Луге, Русська на Воложьбе в Приладожье. Эти названия очерчивают первичную территорию „племенного княжения“ словен, дословно подтверждая летописное: „прозвася Руская земля, новогородьци“. По содержанию и форме в языковом отношении „русь“ — название, возникшее в зоне интенсивных контактов славян с носителями „иних языцей“ как результат славяно-финско-скандинавских языковых взаимодействий…
Первичное значение термина, по-видимому, „войско, дружина“, возможна детализация — „команда боевого корабля, гребцы“ или „пешее войско, ополчение“. В этом спектре значений летописному „русь“ ближе всего финское ruotsi и древнеисландское roþs, руническое ruþ. Бытовавшее на Балтике у разных народов для обозначения „рати, войска“, на Руси это название уже в IX в. жило совершенно самостоятельной жизнью… На ранних этапах образования Древнерусского государства „русь“ стала обозначением раннефеодального восточнославянского „рыцарства“, защищавшего „Русскую землю“… В XI в. „русин“, полноправный член этого слоя, по „Русской Правде“ Ярослава Мудрого, — это „гридин, любо коупчина, любо ябетник, любо мечник“, то есть представитель дружины, купечества, боярско-княжеской администрации…
До определенного времени употребление слова „русь“ в социальном, а не этническом значении не вызывало сомнений. Последние следы этой надплеменной природы военно-дружинной „руси“ зафиксированы в начале XI в. „Русской Правдой“ Ярослава.
…Название этого по происхождению и составу своему прежде всего славянского общественного слоя родилось на славяно-финской языковой почве, но в развитии своем полностью подчинено закономерностям развития восточнославянского общества и Древнерусского государства. В силу этих закономерностей происходило и перерастание уже в IX–X вв. социального значения в этническое: „русь“ становится самоназванием не только для новгородских словен и киевских полян, „прозвавшихся русью“, но и для варяжских послов „хакана росов“, а затем посланцев Олега и Игоря, гордо заявлявшим грекам: „Мы от рода русского“.
Таковы результаты историко-лингвистического анализа проблемы происхождения названия „русь“» [Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Русь и варяги: Русско-скандинавские отношения домонгольского времени//Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 202—205].
Вот уж поистине удивительное «исследование»! Не знаю, что именно исследовали целых двадцать лет уважаемые авторы, но совершенно очевидно, что за это время в головах у них все перемешалось. Иначе как могло получиться, что, начав с утверждения об исключительно социальном происхождении термина «русь» и его употреблении в этом значении «до определенного времени», они заключили свое «исследование» выводом о его этническом содержании уже для IX в.? А если все же «закономерность» развития термина «русь» пролегала в направлении от социального значения к этническому, то как совместить это с тем, что «русины» Ярославовой Правды являются нам все еще дружинниками, купцами и членами княжеской администрации? Я уже не говорю о том, что обозначение гребца и пешего воина одним термином — это явно из языка народов Зазеркалья.
Двадцатилетнее «детальное исследование» происхождения «руси», видимо, не оставило авторам времени подумать о некоторых очень простых вещах. В самом деле, какие, оказывается, хитрецы эти шведы! Чтобы ввести позднейших историков в заблуждение, они самым коварным образом именуют себя «гребцами» (roþs, «ротс») на востоке, в Новгороде и Киеве (чему, впрочем, нет решительно никаких доказательств), между тем как в Западной Европе рекомендуются совсем не гребцами, а шведами и норвежцами. Но и наши славяне тоже хороши. Как только призвали к себе гребцов, так сразу и сами себя гребцами прозвали (видимо, понравилось очень слово), а бывших гребцов стали называть — назло, что ли? — шведами. Тут у бедных финнов голова кругом пошла: и нарекли они славян, ставших гребцами («ротсами»-«русами»-«русскими») — почему-то «венайя», а шведских гребцов, решивших все же впредь быть не гребцами-«ротсами», а просто шведами, — «руотси». Как тут не согласиться с нашими авторами, что на Руси название скандинавских гребцов действительно «жило совершенно самостоятельной жизнью»?
Вообще эта ссылка на извечное русское своеобразие весьма знаменательна. Без нее вся концепция — плод двадцатилетних трудов — просто рушится, ибо кто же, находясь в здравом уме, поверит в «закономерность» перерастания социального значения термина «русь» в этническое? Закономерность, как известно, — это некая, объективно установленная, постоянно возникающая при определенных условиях связь явлений. Стало быть, нашим отечественным норманнистам известен закон перерастания социального значения каких-либо слов, терминов в этническое? Но филологические наблюдения говорят прямо об обратном. Так, у эстонцев «сакс» (саксонец) означает «господин», у финнов — «купец»; в древнефранцузском языке прилагательное «norois», образованное от слова «норман», значило «гордо, надменно». У полабских древан слово «nemtjinka» («немка») означало госпожу высокого рода, а «nemes» («немец») — молодого господина [Шафарик П.-Й. Славянские древности. 2-е изд. В2-х тт. М., 1848. I, 93, II, 239]. Можем ли мы вывести отсюда закономерность, что когда-то давным-давно саксонцы называли себя в Прибалтике купцами, норманы во Франции — надменными людьми, а немцы в Полабье — молодыми господами? Впрочем, это просто смешно, не более. А в случае с «гребцами» — только вдумайтесь! — речь ведется об усвоении восточными славянами иноземного социального термина в качестве собственного этнического самоназвания! Это все равно, как если бы, скажем, жители завоеванных Людовиком XIV Испанских Нидерландов (Франш-Конте) приняли имя мушкетеров, а свою страну назвали Мушкетерландом.
Виданное ли дело, чтобы страны назывались именем какой-либо социальной группы?! Славянская Болгария заимствовала свое имя от тюркских булгар; галло-романская Галлия стала Францией по имени германского племени франков; французская Нормандия — по местному племенному прозвищу скандинавов; иберо-романская Андалузия получила название от вандалов. Так, может быть, все-таки и Русь не пошла своей, непроторенной дорогой, а, подобно всем прочим странам, прозвалась по племенному имени населивших ее пришельцев — русов? Правда, признав, что у славян все было, как у остальных людей, надо будет навсегда забыть о норманнизме…
Кроме того, встав на точку зрения норманистов, мы должны довести себя до последней степени умопомрачения и признать за истину, что послы Олега и Игоря, гордо заявлявшие грекам: «Мы от рода русского», оказывается имели ввиду: «Мы из рода гребцов», — ведь не могли же сами скандинавские дружинники запутаться в том, какой смысл имеет их собственный термин «ротс» — этнический или социальный. А, может быть, они все-таки имели в виду: «мы из рода пеших воинов, ополченцев»? Или: «мы из рода дружинников»? Поди пойми их, если ты норманнист… Наконец, если шведские «ротсы» водворились у новгородцев и киевлян собственными персонами, то почему славяне должны были заимствовать их прозвище от финнов? Ведь Нестор прямо пишет, что славяне называют шведов — шведами, «свеями», и нет никаких оснований считать, что когда-либо прежде они именовали их «ротсами» и «русами».
Такова стократ своеобразная жизнь скандинавского «rops» на Руси, ссылка на которую на самом деле — всего лишь неловкое прикрытие очевидного абсурда, выдаваемого за результаты неусыпной исследовательской работы.
Еще одна мифологема, узаконенная все тем же «исследованием», — тезис о том, что перелицованный из «ротс-руотси» термин «русь» возник в Новгородской земле и быстро сделался самоназванием новгородских словен («прозвашася русью»). Но в том-то и дело, что, несмотря на все уверения норманнистов о существовании в Приильменье и Приладожье первоначальной «Русской земли», таковой в действительности там никогда не было. О том, насколько далеко она простиралась на север от Киева, дает представление следующий эпизод. Когда великий князь Рюрик Ростилавич слишком зажился в городе Овруче, лежащем на притоке Припяти, речке Уже, неподалеку от Киева, другой князь направил к нему послов сказать: «Зачем ты покинул свою землю (то есть Киевскую область. — С. Ц.)? Ступай в Русь и стереги ее». Современные наблюдения над летописным использованием термина «Русская земля», говорят о том, что «в состав Русской земли не входили Новгород Великий с относящимися к нему городами, княжества Полоцкое, Смоленское, Суздальское (Владимирское), Рязанское, Муромское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Овруч, Неринск, Берладь» [ Кучкин В. А. «Русская земля» по летописным данным XI — первой трети XIII в. // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992-1993. М., 1995. С. 90, 95—96]. И лучшее тому доказательство — многочисленные свидетельства самих новгородцев (новгородские источники XI—XV вв.), которые, во-первых, всегда называли себя новгородцами, а не русью, а, во-вторых, не забывали при случае противопоставить свою «Новгородскую/Словенскую землю» — «Русской земле». В одной берестяной грамоте (№ 105, 60—90-е гг. XII в.) новгородец пишет в свой город из «Руси». А вот образец этнического самосознания новгородца еще и в 1469 г.: «…князь великий Владимир крестися и вся земли наши крести: Руськую, и нашу Словеньскую, и Мерьскую…» Стало быть, «прозвашася русью» только киевляне-поляне, которые, однако, не соседили с финноязычными племенами и, следовательно, ведать не ведали ни о каком «руотси». Или же норманистам надо возвестить миру еще одни абсурд — будто бы шведы, появившиеся на берегах Днепра, ранее усвоили себе в качестве племенного самоназвания финский этноним «руотси», то есть искаженный в финноязычной среде их собственный социальный термин «ротс».
И потом, так ли уж крепко связана с финским «руотси» упомянутая «русская» топонимика Новгородской земли? Ведь и поныне существуют города Русе и Рущук на болгарском Дунае, река Рус в Нижней Австрии, город Русовце в Чехии, Равва Русска и Руске Ушице в Трансильвании, Рус-Молдвица в Восточной Буковине, речка Русова впадает в Днестр около Ямполя; Константин Багрянородный упоминает на славянских Балканах X в. города Раусий, Росса, Русиан; в Восточнофранкском государстве IX в. источники отмечают целую «русскую» область — Русамарку. Список можно продолжать и продолжать, но я закончу л`Иль-Русом на Корсике. Кажется, нет надобности уточнять, имелось ли в этих регионах «славяно-финско-скандинавское языковое взаимодействие».
Это пресловутое «руотси» вообще оказывает какое-то гипнотическое воздействие на норманистов, под влиянием которого сам ход их мысли порой принимает довольно странное направление. Послушаем, что пишет, например, один уважаемый ученый: «…сколько-нибудь убедительной финно-угорской этимологии слова ruotsi лингвисты предложить так и не смогли. Настораживает и то, что в собственно финно-угорской языковой среде этот термин использовался для наименования представителей различных этносов: шведов, норвежцев, русских и, наконец, самих финнов…». Отметив далее «нерешенность проблемы происхождения интересующего нас этнонима», он заканчивает свои размышления следующим пассажем: «Тем не менее многие исследователи (чаще всего те, для кого лингвистика не является основным занятием, а вопрос о происхождении слова русь имеет не только сугубо научное значение) продолжают искать собственно славянские корни загадочного имени» [Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). Курс лекций. М., 1999. С. 53—54]. Понять логику автора, как мне кажется, можно только так: в то время как сами мы (норманисты) «убедительной финно-угорской этимологии» предложить не можем, находятся наглецы, псевдолингвисты и неучи, которые продолжают искать славянские корни имени «русь». Или еще короче: мы уже ничего не можем, а они, невзирая на то, продолжают — когда-нибудь, полагаю, войдет в русскую историографию как «последняя жалоба норманиста».
Кстати, по поводу этимологии слова «руотси» и его связи с «гребцами» нелишне будет выслушать мнение ученого XIX в. Паррота, специалиста по финским и балтским языкам: «Оно (слово „руотси“ — С. Ц.) означает вообще хребет, ребро… Перенесение этого понятия на береговые утесы или скалы, коими преимущественно изобилует Швеция, делает понятным, почему финны называют Швецию Руотсмаа, а эсты Руотсима, страною скал» [цит. по: Гедеонов С. А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Записки Императорской Академии Наук: Приложение. Т. I—III. СПб., 1862, N3; 1863, N4.].
Миф о том, что название руси происходит от переиначенной шведской основы, обозначающей «греблю» или «гребцов», опровергает и специалист в области средневековых европейских текстов о Руси А.В. Назаренко («Древняя Русь на международных путях, 2001)»:
«…в умах большинства историков и научной публики парадоксальным образом по-прежнему господствует убеждение, что вопрос, по сути дела, давно исчерпан и др.-русск. русь, также как фин. ruotsi „шведы“ (и аналогичные формы в языках других финских народов со значением либо „шведы, либо „русские“), восходит к некоему древнескандинавскому прототипу, в качестве которого, за редкими исключениями, … обычно постулируется либо гипокористики от сложных слов с первой основой др.-сканд. *roþ-„грести“, вроде *roþs-karlar, *roþs-menn „участники походов на гребных судах“(идея, восходящая еще к В. Томсену…), либо др.-сканд. *roþ (u)z „гребля“, с предполагаемым развитием значения „поход на гребных судах“, „гребная дружина“.
Но всё это — всего лишь безответственные фиологические конструкты. Даже
«...из лагеря норманнистов раздавались и продолжают раздаваться голоса, указывающие на лингвистические трудности, с которыми сталкивается эта хрестоматийная точка зрения. Не так давно немецкий историк и лингвист Г. Шрамм в своей претендующей на подведение итогов работе предложил вообще отказаться от поисков древнескандинавского прототипа финской (а значит, и восточнославянской) форм как от малоперспективных и, главное, иррелевантных для проблемы происхождения др.-русск. русь…».
Противоречит скандинавской версии происхождения имени русь и хорошо засвидетельствованная греческая форма Ρως: «идея о заимствовавнии греч. Ρως из языка (пока еще германоязычных) варягов не только не подкрепляет скандинавской этимологии имени „русь“ (за исключением той ее разновидности, которая была предложена С. Экбу), а, совершенно напротив, ломает ее становой хребет. Как в языке самих варягов или, тем более, в греческом исходная форма типа *roþs-menn могла редуцироваться до *roþs, остается загадкой».
В то же время греч. Ρως без всяких натяжек выводится из др.-русск. русь.
«Между тем для того, чтобы объяснить вокализм ср.-греч. Ρως, вовсе нет нужды искать какие-то иные варианты оригинала, помимо славяноязычного др.-русск. русь. Обильный материал заимствований из славянского в греческий, особенно славянской по происхождению топонимии на территории Византийской империи, показывает, что греч. ω служит обычным субститутом для славянского „u“ под ударением (Vasmer, 1941).»
В своем исследовании Назаренко также указывает, что «вторичный „u“ развившийся в славянских языках из дифтонгов… присутствовал в восточнославянских диалектах (во всяком случае, в некоторых из них) уже в первой половине IX в.». Это означает, что в период, когда византийцы начинают использовать термин Ρως в славянских диалектах уже присутствовало слово «русь» именно с долгим «у» и, соответственно, Ρως отражает просто заимствование из др.-русского языка.
Подытоживая свои исследования западноевропейских источников, Назаренко формулирует убийственный для норманнизма довод, «что среди перечисленных немецкоязычных форм имени „Русь“ есть очень древние — вплоть до IХв. включительно (Ruzara грамоты Людовика Немецкого и Ruzzi „Баварского географа“). При этом „упоминания IХ в. демонстрируют в корне долгий u, который трудно расценить иначе, нежели непосредственное отражение восточнославянского оригинала — др.русск. русь“. „В то же время из предполагаемого др.сканд. *roþs вывести д.-в.-н. Ruz- никак нельзя, ведь в древневехненемецком присутствовал собственный долгий о, так что следовало бы ожидать др.-сканд. *roþs > д.-в.-н.-**Roz-“. Следовательно, „носители самоназвания „русь“, с которыми имели дело на юго-востоке Германии, в Баварской восточной марке (древнейшем ареале русско-немецких межэтничных контактов), уже в первой половине — середине IХв. говорили по-славянски».
Мы видим, что, согласно исследованиям Назаренко, в Константинополе и Германии уже в период раннего средневековья (первая половина — середина IX в.) торговая русь разговаривала на славянском языке (кстати, и по сведениям арабских авторов, купцы "ар-рус", приезжавшие в Багдад, общались через славянских рабов-евнухов).
Таким образом, исследование Назаренко приводит нас к трем выводам:
- Гипотетическая др.-сканд. форма *roþs, от которой финны якобы заимствовали свое ruotsi, — всего лишь вольная филологическая фантазия. Строго филологически Русь не выводится ни из какой шведско-финской основы.
- Греческое название Ρως происходит от восточнославянского «русь», и не могло образоваться от предполагаемого др.-сканд. *roþs.
- Эта же др.-сканд. форма не может объяснить происхождение в немецких латиноязычных документах названия руси как Ruzarii или Rugi каковые формы объясняются только из славянского.
Надеюсь, вы убедились что в пользу норманнской теории нет ни одного свидетельства. Поэтому и опровергать её, собственно, нет нужды. Это трухлявое бревно, лежащее поперёк русской истории, через которое русской науке следует просто перешагнуть. Что мы и сделаем. Вы увидите, что древняя русская история совершенно не нуждается в упоминании скандинавов, которые, по словам С. Гедеонова, "есть не основной, а случайный элемент нашей истории".
Как викингу стать варягом?

«Простая подписка»
Где обитали варяги и русы по сведениям арабских и европейских писателей?
Все средневековые источники так или иначе, каждый на свой лад, помещают варягов и русов примерно в один и тот же географический регион. И это совершенно определенно не Скандинавия.
В «Повести временных лет» русь занимает место между «готами» и «агнянами» — Готландом и Англо-Датским королевством (в иных случаях под "агнянами" разумелись только одни даны). Совершенно очевидно, что летописец имеет в виду южнобалтийский берег — от устья Вислы до датских земель. Здесь и только здесь на Балтике говорили по-славянски, а мы знаем, что, по убеждению летописца, «славянский язык (народ) и русский один есть». Сюда же помещаются варяги (как племя). Во вводной части «Повести» они «приседят» к морю Варяжскому, в соседстве с ляхами, прусью, чудью.
Арабские писатели в своих сведениях о народе «варанков» слово в слово повторяют Нестора, как будто «Повесть временных лет» была их настольной книгой.
У Бируни (в пересказе Абу-ль-Фиды, 1273-1331 гг.) сказано, что «море Варанк (Варяжское/Балтийское море. — С. Ц.) отделяется от Окружающего моря на севере и простирается в южном направлении... Варанки — это народ на его берегу».
Берегу — именно южнобалтийском, так как система ориентации в географических сочинениях средневековья всегда строится «от ближнего — к дальнему»: сначала должен быть упомянут «этот» берег, потом — «тот». Кроме того, на этом же берегу, по сведениям Бируни, живут «келябии» — «кулпинги» византийских хрисовулов и «колбяги» древнерусских памятников, где они постоянно упоминаются рядом с варягами. Между тем еще Татищев указал, что загадочные колбяги вряд ли могут быть кем-то иным, кроме как жителями польского Колобжега, то есть и в этом случае текстовое соседство соответствует географическому.
«Алфавитный перечень стран» Йакута ар-Руми (ум. в 1229 г.) цитирует Бируни более пространно: «Что касается до положения морей в обитаемой части мира, то описание оных, найденное мною у Бируни, есть самое лучшее: море, говорит он, которое на западе обитаемой земли омывает берега Тандши и Андалузии (т. е. Африки и Испании. — С. Ц.) называется Всеокружающим морем... От сих стран это великое море распространяется к северу к стране славян, и выходит из него на севере страны славян большой канал (Балтийское море. — С. Ц.), проходящий к стране мухамеданских болгар (Волжской Булгарии; у Нестора варяги также расселяются на восток «до предела Симова», в полном соответствии с археологическими данными о массовой миграции поморских славян в Новгородскую землю. — С. Ц.). Он-то называется именем моря Варанк. Это есть название народа, живущего у берегов оного, от коего оно распространяется к востоку...»
Под северной частью «страны славян» арабы традиционно и в полном соответствии с исторической действительностью VIII—XII вв. понимали нынешнюю Германию — между Эльбой и Одером, то есть Славянское Поморье.
Комментатор Назир-ад-Дина Шериф Джорджанк (ок. 1409 г.) сообщает то же самое: «Сие море, называемое Варанк, есть рукав (залив) Западного океана, который от северных берегов Испании входит посреди обитаемых стран, простираясь на север Славянской земли, и прошед... мимо страны варанков... обитаемых высокорослым и воинственным народом, простирается среди непроходимых гор и необитаемых земель до пределов Китая».
Этот отрывок также сопоставим с летописным указанием на то, что варяги приседят к Варяжскому морю до предела Симова.
Писатели, независимые от литературной традиции, заложенной Бируни, тем не менее ни в чем ей не противоречат. Персидских ученый XIV в. Казвини говорит: «Шестой морской рукав (залив. — С. Ц.) есть море Галатское, иначе называемое Варяжским. На восток от оного находятся земли Блид (?), Бдрия (?), Буде (?) и часть варягов, на юг равнины Хард (хазар, т. е. Северное Причерноморье. — С. Ц.); на западе земля Франков и народа кастильского и другие, на севере Океан».
Несмотря на некоторые неясности текста, очевидно, что варяги помещаются им на южный берег Балтийского моря, к востоку от Франции.
У ад-Димашки (1256-1327) читаем, что Окружающий океан от Испании «простирается к устью узкого, но длинного пролива... Здесь находится великий залив, который называется морем Варанк... Варанки же есть непонятно говорящий народ и не понимающий ни слова, если им говорят другие... Они суть славяне славян (т. е. важнейшие, знаменитейшие из славян. — С. Ц.)».

Достоверность этому известию придает последний идиоматизм, бытовавший именно в земле поморских славян. Латинская надпись на надгробии поморского герцога Богуслава (ум. 24 февраля 1309 г.) называет его «Slavorum Slavus dux». Следовательно, Димашки или его информатор черпали сведения не из книжной традиции, а пользовались сообщением очевидца, знавшего «варанков» не понаслышке.
Что касается русов, то в арабоязычной литературе, имеется прямое свидетельство очевидца — испанского еврея (сефарда) Ибрагима бен-Йакуба, путешествовавшего в 965—966 гг. по землям прибалтийских славян. Он пишет:
«И граничит с Мшкой (владениями Мешко I, польского князя до 992 г. — С. Ц.) на востоке русы и на севере брусы (прусы. — С. Ц.). Жилища брусов у Окружающего моря... И производят на них набеги русы на кораблях с запада. И на запад от русов племя из славян. Оно живет в болотистых местах страны Мшки к северо-западу».
В его сообщении замечательно то, что он знает киевских русов, живущих восточнее Польши, но отличает от них балтийских славян и неких «западных» русов, помещая их на каком-то отрезке южного берега Балтики, западнее Пруссии и восточнее Дании.
Европейские источники во всем согласны с арабскими.
Немецкий историк Рагевин (ум. в 1177 г.) мимоходом замечает: «А Польша, в которой живут одни славяне, на западе имеет границей реку Одру, на востоке — Вислу, на севере — русин и Скифское (Балтийское. — С. Ц.) море, на юге Богемские леса». Здесь русины занимают область на балтийском берегу Висло-Одерского междуречья.
В летописной статье под 1148 г. великий князь киевский Изяслав Мстиславич обменивается подарками со своим братом, смоленским князем Ростиславом Мстиславичем: «Изяслав дал дары Ростиславу что от Русской земли и от всех царских земель, а Ростислав дал дары Изяславу что от верхних земель и от варяг». И тут варяги оказываются жителями польской Балтики. Ипатьевская летопись (Ермолаевский список) сообщает под 1305 г., что «Поморие Варязское» располагается к западу от «Кгданьска» (Данцига).
В Никоновской летописи Рюрик с братьями и русью приходит «из немец». Этими же «немцами» предстают варяги — жители ганзейских городов балтийского Поморья, то есть бывших славянских земель, колонизованных в XI—XII вв. германскими феодалами, — в договоре Новгорода с Готским берегом 1189 г. Скандинавы «немцами» никогда на Руси не назывались.
Сигизмунд Герберштейн был убежден, что призванные на Русь варяги были ваграми — непосредственными восточными соседями датчан.
Есть только одно противоречащее свидетельство, а именно показание Кекавмена (вторая половина XI в.) о том, что служивший в Византии Харальд Суровый был «сыном василевса Варангии». В данном случае Варангия — это Норвегия (хотя Харальд и не был сыном правителя Норвегии).
Но для того, чтобы понимать, почему в глазах византийца XI в. Норвегия превратилась в Варангию, нам нужно выяснить, где и когда появился сам термин «варяг» и кого, собственно, он подразумевал. Этим мы и займемся в последующих публикациях на тему варяжского вопроса.
Что знали о варягах на Руси?

«Простая подписка»
В какую Биармию плавали скандинавы?
Знаменитая Биармия (Бьярмаланд) превращена усилиями норманнистов в настоящий географический фантом. Правда, что же такое Биармия, объяснить толком они так и не смогли. Были предложены следующие варианты ее локализации: на Кольском полуострове; в норвежской Лапландии; на Карельском перешейке; в Пермской области; в устье Северной Двины; в Ярославском Поволжье; и, наконец, — на всей территории Северо-Восточной Европы от Кольского полуострова до Ладожского озера. Впрочем, ее крайние южные и восточные пределы не суть важны; Биармия нужна норманнистам только для того, чтобы десантировать викингов на Беломорском побережье по меньшей мере во второй половине IX в. и, таким образом, подтвердить миф о скандинавской «колонизации» древней Руси. Дело в том, что саги рассказывают примерно о полутора десятках поездок в Биармию.
При ознакомлении с доказательствами в пользу «беломорской» или «континентальной» Биармии выясняется, что в тезис об освоении скандинавами берегов Карелии, Кольского полуострова и бассейна Северной Двины нас призывают просто поверить. В каталоге археологических находок с этих территорий отсутствуют какие-либо предметы скандинавского происхождения [см. Куратов А. А. Археологические памятники Архангельской области. Архангельск, 1978]. А единственное достоверно известное направление норвежской колонизации пролегает в совершенно другом направлении – в атлантические просторы, к безлюдным берегам Исландии и Гренландии.
Что касается основных источников, привлекаемых норманнистами для доказательства путешествий скандинавов на Беломорье в VIII-X вв., то их всего два. Наиболее ранний — это так называемый «рассказ Оттера», записанный в присутствии английского короля Альфреда Великого около 890 г. Оттер, богатый норвежский рыболов и купец, живший неподалеку от современного Тромсё, поведал королю о своем плавании вдоль северного побережья Норвегии, а его спутник Вульфстан рассказал об их совместной поездке на восток по Балтийскому морю, из Хедебю до Трусо на Эльбинге в Восточной Пруссии. Надо сразу заметить, что оба рассказа переплетены в тексте так, что весьма нелегко отделить один от другого. Поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, в чьем же именно рассказе фигурирует термин «беормы». В исследованиях сторонников «беломорской» Биармии обыкновенно считается, что Оттер, отправившись на север из Тромсё, доплыл до устья Северной Двины, где обнаружил местных жителей - беормов, то есть бьярмов, биармийцев.
С филологической точки зрения отождествление оттеровых беормов с «бьярмами» саг выглядит довольно спорно. Наиболее убедительное определение беормов как вообще «жителей побережья» [см. Тиандер К. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1906] норманнистами, как правило, просто замалчивается. К тому же нарисованный маршрут путешествия Оттера выглядит совершенно фантастическим, ибо при этом игнорируются сведения самого путешественника о том, что его плавание продолжалось около 15 дней (даже не суток). Приняв во внимание среднюю скорость тогдашних морских судов и то, что Оттер, продвигаясь вглубь неизвестных ему просторов, повторял в своем маршруте контуры изрезанной береговой линии, легко убедиться в том, что он навряд ли уплыл на восток дальше Варангерфьорда. Наконец, почему-то всегда упускается из вида, что Оттер, по его собственным словам, был, так сказать, разведчиком, первопроходчиком в этих местах, которому «однажды захотелось узнать, как далеко на север лежит эта земля и живет ли кто-нибудь к северу от этого необитаемого пространства». О каких же массовых плаваниях норвежцев в «Биармию» в VIII—IX вв. может идти речь?

Второй раз Биармия возникает в так называемой «Отдельной саге об Олаве Святом» из «Круга земного» Снорри Стурлусона. Действие в ней происходит летом 1026 г., когда два норвежца, Карли и Торир Собака со своими людьми отправились торговать в Бьярмаланд. Приобретя там беличьи, собольи и бобровые меха, они «поплыли прочь по реке Вине». Но затем им показалось, что добытого богатства недостаточно, и тогда викинги объявили, что «мир с местными жителями закончился». Было решено ограбить святилище бьярмов. Высадившись на сушу, викинги пересекли «ровные долины», вступили в «большие леса» и, наконец, достигли поляны, на которой стояло окруженное частоколом капище. Внутри него высился курган — «в нем перемешаны золото, серебро и земля», — а рядом с курганом стоял идол «бога бьярмов, который зовется Йомали». Викинги ворвались в святилище и ограбили его. Ториру досталась, полная серебряных монет серебряная чаша, стоявшая на коленях у Йомали, а Карли сорвал с идола драгоценное ожерелье. Проснувшиеся стражники-бьярмы бросились в погоню за грабителями, но викингам удалось благополучно вернуться на корабли.
Надо ли пояснять, что в реке Вине сторонникам «беломорской» Биармии чудится Северная Двина? При этом их не смущают ни оживленный торг в землях бьярмов, ни высокая плотность местного населения, ни горы золота и серебра в святилище Йомали, хотя ни то, ни другое, ни третье никак не вяжется с археологической картиной низовьев Северной Двины начала XI в. Добавим еще, что даже в XVII—XVIII вв. прохождение на корабле устья Северной Двины, обширного и заболоченного, требовало помощи опытного лоцмана из местных жителей.
Между тем все эти историко-географические реалии саги полностью соответствуют нашим знаниям о низовых окрестностях другой Двины — Западной. На языке местных ливов она называлась Вина (Vina/Vena). Археология подтверждает густую заселенность этих мест, давнее скандинавское присутствие и высокую торговую активность здешних ливских племен: достаточно сказать, что почти каждый второй западноевропейский динарий, найденный на территории Латвии, происходит с берегов Западной Двины. Возможно, что святилище ливского божества Йомали (Юмала) находилось на месте расположенного неподалеку от двинского устья города Юрмалы.
Все это позволяет поставить ливов, в полном смысле слова «жителей побережья», в прямую связь с беормами из рассказа Отера и Вульфстана и поместить загадочную Биармию впредь и на веки вечные на латвийское побережье Рижского залива*.
* В этом вопросе я опираюсь на превосходное исследование А. Л. Никитина «Биармия/Biarmaland скандинавских саг» [Никитин А. Л. Основания русской истории. М., 2001, 672-700]. Историк между прочим рассказывает, что первая его публикация о Биармии («Биармия и древняя Русь». Вопросы истории, 1976, N7) вызвала полицейский окрик норвежского историка Х. Станга, который пригрозил России (!) «серьезными осложнениями в отношениях между нашими странами», если высказанный Никитиным взгляд будет принят на вооружение «советской исторической наукой». Вот каким образом до сих пор решается варяжский вопрос, вот кто придает ему политическую остроту.
А первое появление норвежцев на Белом море документально зафиксировано только в 1419 г. Новгородской Первой летописью: «Того же лета, пришед мурмане войною в 500 человек, в бусах и в шнеках, и повоеваша в Арзуги погост Корильскыи и в земли Заволочкои погосты: в Неноксе, в Корельском монастырь святого Николы, Конечныи погост, Яковлю курью, Ондреянов берег, Киг остров, Кяр остров, Михайлов монастырь, Чиглоним, Хечинима; три церкви сожгли, а христиан черноризиц посекли; и заволочане две шнеки мурман избиша, а инии избегоша на море».
Причем, норвежцы приплыли сюда отнюдь не потому, что у них в крови клокотала викингская страсть к путешествиям и освоению новых земель; их военная акция носила вынужденный характер, будучи вызвана набегами новгородских ушкуйников на окрестности Тромсё. Встретив отпор, норвежцы более не повторяли военных экспедиций в Беломорье.
Загадка "русских" названий днепровских порогов
«Русские» и «славянские» названия днепровских порогов — один из «китов», на которых держится учение норманнистов. Хотя на самом деле там всё плохо — и с логикой, и с аргументами, и с фактами.
Итак, по сообщению Константина Багрянородного семь днепровских порогов имели двойную систему названий: «русскую» («росскую») и «славянскую».
Первый порог — Эссупи, «что означает по-росски и по-славянски “Не спи”».
Второй — «по-росски» Улворси, по-славянски Островунипрах, что значит «Островок порога».
Третий — Геландри, «что по-славянски означает “Шум порога”» («русская» версия отсутствует).
Четвертый — «по-русски» Аифор, по-славянски Неасит, «так как в камнях порога гнездятся пеликаны».
Пятый — «по-росски» Варуфорос, по-славянски Вулнипрах, «ибо он образует большую заводь».
Шестой — «по-росски» Леанди, по-славянски Веручи, что означает «Кипение воды».
Седьмой — «по-росски» Струкун, по-славянски Напрези, «что переводится как “Малый порог”».
Днепровские пороги — давняя вотчина норманнистов, где они чувствуют себя как дома. По их уверениям, в «русских» названиях видна «прозрачная скандинавская этимология» их корней, благодаря чему «все они наиболее удовлетворительно этимологизируются из древнескандинавского... или древнешведского... языка» (при изложении точки зрения норманнистов я ориентируюсь на подробные комментарии Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина к книге Константина Багрянородного «Об управлении империей» [см.: Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С. 312 и далее]).
Однако быстро выясняется, что, например, скандинавское название первого порога «убедительно восстановить не удаётся». Аналогичное затруднение возникает со скандинавской этимологизацией седьмого порога. Причём, в последнем случае, для того чтобы согласовать скандинавскую версию названия со славянской, приходится опереться на «незасвидетельствованное» (проще говоря, выдуманное) славянское слово.
И на поверку оказывается, что более или менее приемлемая реконструкция скандинавской формы названий порогов возможна только в одном случае — третьем: Геландри («Шум порога») — от древнескандинавского глагола gialla — «громко звучать», «звенеть».
При этом, однако, не принимаются во внимание следующие нюансы. Основа gialla безусловно относится не к специфически скандинавскому, а к общеиндоевропейскому лексическому фонду. Как ни чуждо звучит для славянского уха название третьего порога в передаче Константина, но в славянских языках та же основа дала такие «шумящие» слова, как «глагол», «глас», «голос», «гул», «галдеть».
Далее, как могло случиться, что целая фраза, пусть и короткая («Не спи»), не только звучит одинаково «по-шведски» и по-славянски, но и означает одно и то же?! Норманнисты стыдливо молчат на этот счёт. Мы же не будем стесняться и громко провозгласим очевидное: «русское» «не спи» не может быть шведской фразой, и, стало быть, Константиново «по-росски» не означает «по-шведски».
Наконец, местонахождение нескольких порогов, названных Константином, не установлено, из-за чего нельзя проверить соответствие их наименований тем названиям, которые закрепились за ними впоследствии.
Словом, даже изощрённые филологические конструкции, созданные двухсотлетними усилиями норманнистов, не дают им повода победно опочить на лаврах. Из-за своей крайней запутанности вопрос о названиях днепровских порогов вообще не может быть решён в рамках сугубо филологического подхода. Д. И. Иловайский был полностью прав, когда писал: «Некоторые из норманнистов уже высказали мысль, что вопрос о происхождении Руси есть вопрос не исторический, а филологический, как будто история может расходиться с филологией. Мы думаем, что там, где филологические выводы противоречат историческим обстоятельствам, виновата не наука филология, а те филологи, которые прибегают к натяжкам на заданную тему. Если выходит несогласие с историей, значит филологические приёмы были не научны, исследования произведены не точно, данные осмотрены односторонне, а потому и выводы не верны» [Иловайский Д. И. Разыскания о начале Руси. М., 1882. С. 113—114].
Что же говорят нам исторические свидетельства? Они говорят, что византийцы не называли скандинавов росами; что первые единичные посещения скандинавами Константинополя сами же скандинавские источники относят лишь к началу XI в. (а о днепровских порогах вообще не ведают); что нет ни одного другого примера прижившихся на Руси скандинавских названий местностей — даже на Новгородском Севере; что шведы, поступавшие на русскую службу, учили русский язык («Сага об Ингваре») и, следовательно, на нём и объяснялись при встрече с греками, ибо императорские толмачи, разумеется, не стали бы учить шведский ради того, чтобы без помех побалагурить с несколькими десятками наёмников о том, как они называют днепровские пороги; что русская копия договора Олега с Византией (в «Повести временных лет») составлена по-славянски, причём его летописный вариант переведён непосредственно с греческого оригинала, а не со шведского подстрочника и т.д.
Можно полностью согласиться с выводом М. Ю. Брайчевского о том, что «норманнская версия (истолкования «русских» названий днепровских порогов у Константина. — С. Ц.) оказывается далёкой от совершенства, требуя серьёзного пересмотра и переоценки» (Брайчевский М. Ю. «Русские» названия порогов у Константина Багрянородного. В кн.: Земли Южной Руси в IX—XIV вв. Киев, 1985).
По всей вероятности, «русский» язык, о котором идёт речь в ряде средневековых источников, был диалектом, родственным славянскому. У нас нет никаких оснований ставить под сомнения слова Нестора о том, что «словенский язык и русский один», имея аналогичное свидетельство аль-Бекри о том, что русы говорят по-славянски, и, главное, — эпизод из жития св. Кирилла о «русских письменах» — Евангелии и Псалтири, переведённых на «русский» язык. Как явствует из этого источника, создателю славянской грамоты понадобилось лишь внимательно вникнуть в незнакомый ему «русский» текст, чтобы отличить гласные от согласных и начать переводить слова и фразы. Эти «русские письмена» никак не могли быть шведской письменностью, ибо ни о каком переводе Библии на языки народов Скандинавии до эпохи Реформации история не знает.
Источники донесли до нас сведения о существовании в Славянском Поморье особого славяно-германского наречия. Сохранились выдержки из «вандало-славянского» словаря Карла Вагрийского, свидетельствующие о языковой близости этих двух народов. Схожее наблюдение принадлежит географу XVI в. Меркатору, который заметил о языке населения острова Рюген, что у них в ходу «славянский да виндальский» языки.
Вот этот «виндальский» язык русов, по всей видимости, и зафиксирован Константином в «росских» названиях днепровских порогов.
О "скандинавских именах русских князей и дружинников

«Простая подписка»
Скандинавы и Русь

«Простая подписка»
«Норманны не основной, а случайный элемент в нашей истории», — отчеканил в своё время С. А. Гедеонов.
Норманнизм становится "наукой"

«Простая подписка»
Норманнизм сформировался в качестве пангерманской тенденции, покоящейся на методологических заблуждениях.
Норманнизм укореняется на русской почве (1730-е — начало XIX вв.)

«Простая подписка»
Норманнизм был в глазах русских людей дикостью, вопиющим искажением их прошлого, с которым они отнюдь не собирались мириться.
Европейский антинорманнизм XVI—XVII веков

«Простая подписка»
«Норманнская» трактовка зарождения Русского государства на протяжении XVII в. оставалась национальной особенностью шведской историографии.
Рождение норманнизма

«Простая подписка»
Норманнизм — это научная теория, которая не могла возникнуть при правильном чтении источников. Капитальный скандал в истории русской науки.